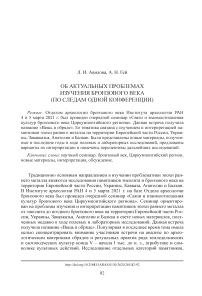Об актуальных проблемах изучения бронзового века (по следам одной конференции)
Автор: Авилова Л. И., Гей А. Н.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: От камня к бронзе
Статья в выпуске: 265, 2021 года.
Бесплатный доступ
Отделом археологии бронзового века Института археологии РАН 4 и 5 марта 2021 г. был проведен очередной семинар «Связи и взаимоотношения культур бронзового века Циркумпонтийского региона». Данная встреча получила название «Вещь в обряде». Ее тематика связана с изучением и интерпретацией памятников эпохи раннего металла на территории Европейской части России, Украины, Закавказья, Анатолии и Балкан. Были представлены новые материалы, полученные в последние годы в ходе полевых и лабораторных исследований, предложены варианты их интерпретации и намечены перспективы дальнейших исследований.
Научный семинар, бронзовый век, циркумпонтийский регион, новые материалы, интерпретация, обсуждение
Короткий адрес: https://sciup.org/143178366
IDR: 143178366 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.82-92
Текст научной статьи Об актуальных проблемах изучения бронзового века (по следам одной конференции)
Традиционно основным направлением в изучении проблематики эпохи раннего металла являются исследования памятников энеолита и бронзового века на территории Европейской части России, Украины, Кавказа, Анатолии и Балкан. В Институте археологии РАН 4 и 5 марта 2021 г. на базе Отдела археологии бронзового века был проведен очередной семинар «Связи и взаимоотношения культур бронзового века Циркумпонтийского региона». Семинар ориентирован на проблемы изучения и интерпретации памятников эпохи раннего металла от энеолита до позднего бронзового века на территории Европейской части России, Украины, Закавказья, Анатолии и Балкан в свете новых материалов, полученных недавно в ходе полевых и лабораторных исследований. Данная встреча получила название «Вещь в обряде». Популярная в последнее время тема имела целью сконцентрировать внимание участников встречи на анализе по археологическим материалам обрядов и ритуальных практик ряда земледельческих и скотоводческих культур конца V – начала I тыс. до н. э., атрибутике и символике культовых действий. Исследование отдельных категорий памятников, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.265.82-92
ситуативных комплексов, категорий и типов материальной культуры с точки зрения их места и роли в обрядово-религиозной сфере представляется существенно важным для понимания не только идеологических, но и социокультурных процессов древности.
На встрече, собравшей в онлайн-режиме около 70 исследователей (в том числе из-за рубежа), было представлено 15 докладов. Активное участие специалистов по бронзовому веку и оживленная содержательная дискуссия показали актуальность поставленной темы. Ряд докладов к настоящему времени опубликован в различных изданиях. Однако в связи с тем, что публикация специального сборника материалов семинара не планировалась, был подготовлен настоящий обзор работы прошедшей встречи, который позволяет представить ее как единое целое и тем самым более точно оценить ее результаты и значение.
Доклады, прочитанные на семинаре, группировались по нескольким направлениям, в зависимости от хронологических, территориальных и тематических рамок исследования.
Первое направление – анализ материалов из комплексов энеолита – ранней бронзы (IV–III тыс. до н. э.) с территории Подонья, Северного Кавказа, Крыма, Анатолии (А. М. Скоробогатов; Л. И. Авилова; В. А. Трифонов; С. Н. Кореневский; О. А. Брилева, М. Исерлис и К. А. Днепровский; А. Н. Черкасов и П. Р. Хо-лошин). В докладах рассматривались проблемы хронологии, классификации и интерпретации различных археологических комплексов и категорий находок: металлических и керамических сосудов, костяных изделий и др.
А. М. Скоробогатов представил материалы погребений эпохи энеолита, происходящие из кургана 6 могильника у хут. Голубая Криница на Среднем Дону (Воронежская область). Обнаруженный в них инвентарь включал керамику с примесью раковины, подвески из зубов оленя, черешковые наконечники стрел и орудия из кремня, металлические пронизки. Проведенный анализ одной из них показал, что она изготовлена из бронзы с низкой примесью мышьяка. Эти материалы вместе с полученными абсолютными датировками указывают на эне-олитическую принадлежность комплекса (втор. пол. V тыс. до н. э.). Автор относит обе могилы (сохранившуюся и разрушенную) к древнейшим подкурганным погребениям на Среднем Дону, в которых сочетаются поздние среднестоговские («дереивские») и ранние «постмариупольские» элементы. Проведенный спорово-пыльцевой анализ погребенной под насыпью древней почвы свидетельствует о кратковременном похолодании и повышенной увлажненности климата в период сооружения кургана ( Скоробогатов и др ., 2021).
В докладе Л. И. Авиловой, посвященном изучению металлических сосудов Анатолии III тыс. до н. э., был представлен анализ хронологического и территориального распределения находок с акцентом на динамику их распространения во времени, морфологию и материал изготовления. Особое внимание было уделено контексту обнаружения, функциональному назначению и социальным практикам использования металлической посуды. Автор подчеркнула значение таких находок для определения комплексов как элитарных, а также в связи с использованием парадной металлической посуды в ходе общественно значимых событий, таких как церемониальная трапеза, в том числе погребальное пиршество.
Основной вывод доклада: металлические сосуды следует рассматривать как один из важных признаков иерархической структуры раннегосударственного общества, сложения цивилизаций ближневосточного типа ( Авилова , 2020). Этот тезис косвенно подтверждается отсутствием металлической посуды в памятниках III тыс. до н. э. в Северном Причерноморье.
В. А. Трифонов предложил для обсуждения интерпретацию одной категории находок майкопской культуры, поставив вопрос: «Наконечники стрел или булавки?». Были рассмотрены костяные предметы из майкопских погребений, в том числе из новых раскопок 2017–2018 гг. Находки – костяные предметы с конусовидным навершием и длинным черенком, общей длиной ок. 18 см – найдены под ребрами погребенного. Традиционно такие находки считаются стрелами, но по размерам, баллистическим свойствам и контексту они стрелам не соответствуют. Аналогичные предметы из Нальчикской гробницы имели верхнюю конусовидную часть, покрытую золотыми колпачками. Автор предложил термин для подобных изделий («костяные/роговые булавки с конусовидным навершием майкопской культуры») и привлек в качестве аналогии изображение на резной накладке из Мари (Раннединастический III, сер. – втор. пол. III тыс. до н. э.). Данный элемент декора одежды встречается по всему ареалу майкопской культуры и является частью переднеазиатского стиля в костюме, что подтверждается и тем, что с исчезновением майкопской культуры на Северном Кавказе выходят из моды все шумерские аксессуары одежды.
С. Н. Кореневский в докладе «Символы плодородия на предметах в погребальной практике населения Предкавказья в IV–III тыс. до н. э.» обратился к символике, связанной с идеями плодородия. К этому значимому семантическому полю относятся не только изображения растений, но и воды. Автором, в частности, был предложен детальный анализ изображений рек на серебряном сосуде из Майкопского кургана с особым вниманием к манере изображения воды штриховкой «в елочку» и «чешуйками». Были приведены параллели данным приемам среди шнуровых орнаментов на булавках и других украшениях из северокавказских памятников эпохи средней бронзы и выдвинуто предположение, что и такие нереалистические мотивы также могут отражать идеи плодородия.
О. А. Брилева, М. Исерлис и К. А. Днепровский посвятили свое выступление анализу стратиграфии, планиграфии и архитектуры строений на Серегинском поселении майкопской культурно-исторической общности. Были представлены материалы завершенных раскопок 1986–1988 гг. Поселение, расположенное в нижнем течении Кубани (Адыгея), является одним из ключевых для понимания структуры майкопских жилых памятников. Заново проведенный анализ полевой документации и материальных остатков, полученных в ходе раскопок, стал основанием для новой интерпретации изученных объектов. Результаты исследования позволяют говорить о сложной стратиграфии Серегинского поселения с толщиной культурного слоя 0,9–1 м и частой сменой планировки застройки/деятель-ности. Была предложена реконструкция майкопского комплекса и его строений. Сооружения представляют собой большие, округлые турлучные постройки с обмазанными полами и системой очагов. Поселение характеризуется чередованием рухнувших и вновь отстроенных турлучных структур и плотной стратиграфией. Система очажных площадок схожа с описанной С. Н. Кореневским на поселении
Галюгай-1, однако в целом стратиграфическая картина, зафиксированная на Се-регинском, нетипична для известных на сегодняшний день майкопских поселений ( Брилева и др ., 2020; Исерлис и др ., 2020).
В докладе А. Н. Черкасова и П. Р. Холошина «Керамика в ямных погребениях Северо-Западного Крыма» рассмотрены погребения ямной культурно-исторической общности, исследованные в курганных памятниках на северо-западе полуострова. Исходя из основных показателей погребального обряда, прежде всего позы и ориентировки погребенных, была сделана попытка наметить локальные и хронологические группы погребений на данной территории и определить для них вероятный круг аналогий среди памятников различных групп населения, входивших в древнеямную общность. Изучение другого важного элемента погребального обряда – глиняных сосудов – проводилось по методике Бобринского – Цетлина. В результате анализа форм сосудов было выделено несколько групп. Соотнесение этих групп керамики с выявленными группами погребений демонстрирует определенную корреляцию, что подтверждает правомерность выделения локальных и хронологической вариаций в общем массиве ямной культуры Северо-Западного Крыма.
Второе направление работы семинара – проблемы интерпретации комплексов эпохи ранней и средней бронзы Северного Кавказа и Балкан с находками ритуальных предметов, вроде антропоморфных фигурок или моделей транспортных средств (А. Н. Гей; А. А. Клещенко; В. И. Балабина).
В докладе А. Н. Гея «О символике глиняных моделей и связанных с ними наборов в памятниках средней бронзы Предкавказья и Причерноморья» рассматривались вопросы интерпретации этих предметов и определения их роли в погребальной обрядности северокавказской и катакомбной культурных общностей. В отличие от Е. В. Избицер, не признавшей в глиняных моделях изображения транспортных средств, по крайней мере повозок, представленных в степных подкурганных захоронениях ( Избицер , 1993; 2004), и А. А. Калмыкова, предложившего считать широко распространенные «санки-люльки» изображениями колыбелей ( Калмыков , 2012), автор доклада аргументирует версию о повозках. Основанием для этого стало выделение специального культового набора, сопровождающего как модели кузовов разных типов, так и модели собственно колес. Наиболее частой находкой таких наборов являются трубчатые кости птиц, часто со следами черной или красной краски. Обычно они размещаются рядом с моделями повозок или внутри них. В работах Е. В. Избицер и А. А. Калмыкова эти предметы рассматриваются как символические изображения людей или антропоморфных персонажей. Однако сопоставление анатолийской и кавказской глиняной пластики с костяными вставками говорит в пользу трактовки трубок из костей птиц как изображений человеческой души, в том числе как символов душ умерших, душ предков. Предполагается, что в захоронения ранней и средней бронзы Предкавказья и Причерноморья помещались сложные инсталляции, изображающие обрядовые или мифологические сцены, важные для сути проводимого обряда. Сами магические действия с моделями повозок, вероятно, были направлены на установление контактов с потусторонним миром, обеспечение приема душами предков души недавно умершего члена коллектива, являлись частью жертвенных церемоний по обеспечению его загробного существования.
Использование птичьих костей в качестве символов душ умерших находит объяснение в широко распространенной, скорее всего архетипической идее о душе-птице, известной в мифологии и фольклоре многих народов. При этом очень точные и отчетливые параллели можно найти в культуре, мифологии и волшебной сказке ряда европейских народов, связанных с индоевропейской языковой семьей.
Выступление А. А Клещенко было посвящено новым находкам антропоморфных статуэток северокавказской культуры в Центральном Предкавказье. Докладчик представил исследование алебастровых и глиняных антропоморфных статуэток из погребальных комплексов развитого и позднего этапов северокавказской культуры (XXVIII – нач. XXV в. до н. э.), обнаруженных в Центральном Предкавказье в 2000–2014 гг. Доклад содержал детальное описание 14 статуэток из пяти погребений, раскопанных в недавнее время, и обоснование их датировки. Вся серия на данный момент включает 21 статуэтку из 9 погребений. Большое внимание уделено закономерностям расположения захоронений со статуэтками в насыпях курганов, самих статуэток в погребениях и в зависимости от возрастного состава погребенных. В основу классификации статуэток положен ряд признаков: материал изготовления, форма, размеры и орнаментация. На основании этих данных была предложена гипотеза о происхождении антропоморфных статуэток северокавказской культуры от культовой пластики так называемого серезлиевского типа, известной в Северном Причерноморье в конце IV тыс. до н. э. Картографирование находок статуэток на территории Центрального Предкавказья позволило предложить название для данной серии культовых предметов: статуэтки подкумского типа ( Клещенко и др ., 2021).
Тема исследования антропоморфной пластики получила отражение в докладе В. И. Балабиной «Стоящие антропоморфные фигурки финального горизонта халколита на телле Юнаците». Фракийский телль Юнаците известен в археологической литературе. По культурной принадлежности горизонт соответствует кругу Коджадермен – Гумельница – Караново VI – Сэлкуца III. Доклад стал продолжением исследования антропоморфной пластики, значительная часть которого уже опубликована ( Балабина , 2020; 2021; в печати). Были рассмотрены две совокупности стоящих статуэток: нагие фигурки и статуэтки обобщенного облика, которые выглядят как бы одетыми в длинные платья. Среди нагих статуэток есть женские, мужские и изображения без признаков пола. Одетые фигурки соответствуют только женским персонажам. Жесты обнаженных фигурок более разнообразны в отличие от одетых. Обобщенные статуэтки морфологически более вариативны: туловища у них цилиндрические и усеченно-конические, без полостей снизу и с полостями разной глубины и формы. Фигурки с полостями могут быть как орнаментированными, так и без орнамента. У последних в ряде случаев показаны выступающие животы. Что касается контекста, то статуэтки обычно находились в постройках, при этом они могли образовывать разные сочетания – «одетые» фигурки и нагие в разных позах (стоящие и сидящие). Автор подчеркнула, что если стоящие нагие фигурки имеют очень длинную историю, то одетые (как и погремушки) встречаются в Болгарии в материалах круга Код-жадермен – Гумельница – Караново VI, а на задунайских памятниках они известны раньше, с Гумельницы А2.
Третье направление было связано с анализом расположения находок в погребениях катакомбных культур эпохи средней бронзы в степном Предкавказье.
М. В. Андреева выступила с докладом «О расположении вещей в погребениях восточноманычской катакомбной культуры». Автор подчеркнула, что в степных курганных захоронениях ранней и средней бронзы присутствует стандартный набор категорий, при этом в захоронениях позднекатакомбного времени (середины – второй половины III тыс. до н. э.) эти вещи встречаются чаще и концентрированнее, чем в комплексах предшествующего и последующего периодов бронзового века на тех же территориях. Это делает позднекатакомбные культуры перспективным источником для изучения обрядовых действий, связанных с захоронением останков. В последнее время получила развитие точка зрения, что в могилах катакомбных и более ранних культур имело место упокоение предметов, использовавшихся прежде всего в культовых целях, а погребальная практика была включена в ритуал жертвоприношения. Анализ взаимовстречае-мости артефактов в восточноманычских индивидуальных погребениях привел автора к заключению, что ритуал был сложносоставным и включал как минимум три аспекта: в одном использовались бронзовые, в другом – каменные орудия, в третьем – курильница. Судя по отсутствию положительной корреляции этих трех категорий между собой, связанные с ними обряды могли исполняться как последовательно в составе общего ритуала, так и по отдельности. Степень сложности обрядовых действий, очевидно, зависела от социального статуса погребенного.
В продолжение этой темы докладчик коснулась размещения в могильной конструкции и по отношению к погребенному престижных орудий из бронзы, камня (песты и ступки), а также расположения этих предметов рядом друг с другом и с другими находками в тех же погребениях. Была показана пространственная близость стержней и ножей друг с другом, с чугунковидными сосудами и костями мелкого рогатого скота (ритуальный комплекс 1), крюков – с реповидными сосудами (ритуальный комплекс 2), пестов и ступок – с повозками (ритуальный комплекс 3). Поскольку и в элитных, и в рядовых погребениях кроме престижных вещей встречаются одни и те же артефакты в различных сочетаниях, можно полагать, что во всех инвентарных погребениях представлены следы одних и тех же ритуалов. Дальнейший поиск следов социальной стратификации перспективно вести с опорой на находки, входящие в выявленные ритуальные комплексы.
К теме структуры погребального комплекса обратился В. И. Мельник в докладе «Ролевое распределение вещей в погребальном комплексе и его символическая композиция». Была представлена теоретическая модель пространственного членения погребального комплекса, разработанная преимущественно на материале катакомбных культур Восточного Приазовья. Интерес автора был сосредоточен на общих проблемах символики погребального комплекса, в соответствии с темой семинара внимание было обращено на вещи. Автор предложил определение вещи в этом качестве как движимого предмета, соизмеримого с размерами тела человека, в отличие от сооружения, значительно превышающего эти размеры. Еще одна категория – движимые предметы большого размера (транспортные средства). Докладчик предложил выделять в погребальном сооружении пространственные зоны: пространство погребенного; шахта/дро-мос для доставки тела в камеру; вход/лаз в камеру как зона ее открытия и закрытия; открытая площадка вокруг погребения для совершения ритуальных действий. Предметная среда памятника включает погребальное имущество: облачение погребенного, обрамление (подстилки и т. п.), сопровождение (инвентарь). В шахте/дромосе может находиться погребальный реквизит (сопутствующие предметы).
Так автор попытался показать различную роль вещевого материала, находящегося в разных частях комплекса. Совокупность погребальных компонентов интерпретируется как организованная особым образом символическая композиция (погребальная инсталляция), имеющая концентрическую структуру и отражающая основу жизнеобеспечения (пища-одежда-укрытие).
Четвертое направление – интерпретация отдельных категорий находок из погребений посткатакомбного и позднебронзового времени степной и лесостепной зон Юго-Восточной Европы и Кавказа (Р. А. Мимоход и А. Н. Уса-чук; Ю. В. Лунькова, В. Ю. Луньков и С. В. Демиденко; А. А. Горошников, А. В. Дедюлькин и В. А. Меньшиков; А. Ю. Скаков).
Доклад Р. А. Мимохода и А. Н. Усачука «Каменные бруски с двумя перетяжками в погребениях культурного круга Бабино в контексте хронологии и системе оснащения лучников в западной части Старого Света» выделяется широтой охвата источников, использованием экспериментальных данных и значимостью выводов. Выступление было посвящено анализу редкой категории инвентаря – каменным брускам с двумя перетяжками, которые являются четкими культурно-хронологическими маркерами. В Восточной Европе такие бруски известны только в материалах днепро-донской и волго-донской культур круга Бабино. Время их бытования ограничено пределами XXII в. (cal BC), что соответствует верхней границе их существования на Ближнем Востоке, в Центральной и Западной Европе в пределах периода бронзы A1. По функциональному назначению бруски представляют собой часть снаряжения лучника, а именно защитные накладки на предплечье, предохраняющие от удара тетивы. Анализ расположения защитных накладок в погребениях позволяет определить три позиции их повседневного использования: небоевую, предбоевую и боевую. Проведенное экспериментальное моделирование показало, что защитная накладка закреплялась на руке при помощи кожаного нарукавника со шнуровкой ( Мимоход и др ., 2021).
В докладе Ю. В. Луньковой, В. Ю. Лунькова и С. В. Демиденко «Деревянные предметы в погребениях срубной культуры: новые данные» были рассмотрены погребальные комплексы из курганного могильника Красные Липки (Волгоградская область) с редкими типами инвентаря – деревянными предметами. В погребениях были обнаружены фрагменты деревянного сосуда и футляры (обкладки) бронзовых ножей. Аналогичных комплексов на территории срубной культурно-исторической общности (КИО) очень мало, таким образом, исследованные погребения являются уникальными. В их обряде нашла отражение сложная социальная структура носителей срубной традиции. Хронологически материалы могут быть отнесены к раннему периоду срубной КИО.
Деревянные футляры не являются хронологическим индикатором в отличие от обнаруженных в погребениях сосудов и ножей. В то же время в силу хорошей сохранности они позволяют восстановить форму данного типа изделий, редко встречающихся в погребальных комплексах срубной КИО. Возможно, футляры изготавливались специально для конкретных ножей, так как в данных случаях они полностью повторяли их форму. Деревянный сосуд представлен фрагментарно, сохранились в основном части, где присутствовали бронзовые накладки. Тем не менее удается восстановить диаметр сосуда и частично его форму. Накладки представляли собой бронзовые пластины, охватывавшие край венчика сосуда с внутренней и внешней сторон, и крепились на венчике бронзовыми заклепками, соединявшими внутренний и внешний края пластин в вершинах треугольников, украшавших их.
Авторами был предложен ряд заключений: 1. Дерево использовалось для изготовления не только рукояток ножей и ножен, но и специальных футляров, в которых ножи помещались полностью, вместе с рукоятью. Можно предположить, что они изготавливались специально для конкретного ножа. 2. Обряд и набор инвентаря, встреченный вместе с деревянным сосудом, соответствуют предположениям большинства исследователей о принадлежности данных погребений к социально неординарным ( Отрощенко , 1992. С. 71–72; Цимиданов , 2004. С. 55).
Доклад А. Ю. Скакова «Выявленные особенности погребального обряда могильника Джантух: погребально-поминальная вымостка, “тайники” и их инвентарь» был посвящен результатам исследования могильника Джантух (Восточная Абхазия, г. Ткуарчал). Здесь выявлены ранее неизвестные особенности колхидского погребального обряда I тыс. до н. э. (джантухско-лариларский вариант ин-гуро-рионской колхидской культуры). Как правило, наиболее характерными для данного региона Колхиды считаются погребальные ямы с коллективными погребениями и обрядом кремации. У двух погребальных ям в могильнике Джантух обнаружены ямы-«тайники». Они были устроены перед началом использования могильного сооружения, заполнены конгломератом спекшегося и пережженного инвентаря, а затем перекрыты слоем материковой глины. Обнаруженный в них инвентарь ограничен определенным набором предметов (оружие, украшения), керамика и бусы, к примеру, отсутствуют. Новым типом выявленного могильного сооружения является также погребально-поминальная вымостка сложной формы, при этом погребальной ямы не было, а кости и инвентарь размещались непосредственно под камнями вымостки. Среди камней вымостки был встречен достаточно многочисленный инвентарь, особенно хорошо представлены копья, колокольчики и штыри для подвешивания колокольчиков. Часть камней вымост-ки обработана, в нескольких случаях на камнях нанесены кресты, свастика, вихревой знак.
Заключение
Постановка темы семинара дала возможность предложить более многосторонние и углубленные интерпретации археологических находок и комплексов, из которых они происходят. Это, в свою очередь, приближает нас к ответу на вопрос, какое место занимают археологические памятники нашей страны и стоящие за ними общественные и идеологические процессы в древней истории и культуре Старого Света. Значение встречи не только в активном обмене новой информацией, мнениями, интерпретациями и идеями, но и в том, что она подводит специалистов по археологии бронзового века к необходимости верификации многих ранее выработанных взглядов и оценок, определяет поле для дальнейшего исследовательского поиска.
Список литературы Об актуальных проблемах изучения бронзового века (по следам одной конференции)
- Авилова Л. И., 2020. К изучению металлических сосудов Анатолии (III тыс. до н. э.): морфология и контекст находок // КСИА. Вып. 260. С. 21–42.
- Балабина В. И., 2020. Налепные головки на керамике последнего халколитического горизонта телля Юнаците // КСИА. Вып. 258. С. 126–137.
- Балабина В. И., 2021. Глиняные головы антропоморфных фигурок, найденные при раскопках верхнего горизонта халколита (В1) на телле Юнаците, Болгария // КСИА. Вып. 262. С. 156–168.
- Балабина В. И. (в печати). Стоящие антропоморфные фигурки финального горизонта халколита на телле Юнаците // SP.
- Брилева О. А., Днепровский К. А., Исерлис М., 2020. Новый анализ стратиграфии Серегинского поселения, исследованного в 1986–1988 гг. // КСИА. Вып. 259. С. 114–131.
- Исерлис М., Брилева О. А., Днепровский К. А., 2020. Общий план и архитектура строений на Серегинском поселении // КСИА. Вып. 259. С. 132–147.
- Избицер Е. В., 1993. Погребения с повозками степной полосы Восточной Европы и Северного Кавказа. III–II тыс. до н. э. // Автореф. дисс. … канд. ист. наук. СПб. 24 с.
- Избицер Е. В., 2004. Модели «повозок», «флейты Пана» и северокавказская культура // Археолог: детектив и мыслитель. Сб. статей, посвященный 77-летию Льва Самойловича Клейна / Отв. ред. Л. Б. Вишняцкий, А. А. Ковалев, О. А. Щеглова. СПб.: СПбГУ. С. 409–421.
- Калмыков А. А., 2012. Глиняные модели из погребений эпохи средней бронзы Егорлык-Калаусского междуречья // Проблемы археологии Кавказа. Вып. 1. М.: Таус. С. 86–119.
- Клещенко А. А., Березин Я. Б., Бабенко В. А., Канторович А. Р., Маслов В. Е., 2021. Новые находки антропоморфных статуэток северокавказской культуры в Центральном Предкавказье // КСИА. Вып. 264. С. 30–49.
- Мимоход Р. А., Усачук А. Н., Вербовский А. В., 2021. Каменные бруски с двумя перетяжками в погребениях культурного круга Бабино в контексте оснащения лучника в западной части Старого Света // АВ. Вып. 32. С. 386–401.
- Отрощенко В. В., 1992. Традиции изготовления деревянных сосудов в эпоху бронзы и раннего железа на юге Восточной Европы // Киммерийцы и скифы. Тез. Междунар. науч. конф., посвященной памяти А. И. Тереножкина. Мелитополь. С. 71–72.
- Скоробогатов А. М., Березуцкий В. Д., Васильев С. В., Курбанова Ф. Г., Пузанова Т. А., Трегуб Т. Ф., 2021. Курган эпохи энеолита на юге Воронежской области // КСИА. Вып. 264. С. 75–89.
- Цимиданов В. В., 2004. Социальная структура срубного общества / Отв. ред. В. В. Отрощенко. Донецк: ИА НАНУ. 203 с.