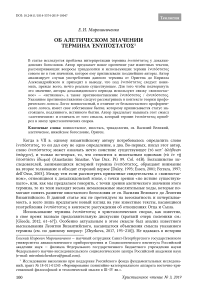Об алетическом значении термина
Автор: Мирошниченко Евгений Игоревич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 3 (86), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется проблема интерпретации термина ἐνυπόστατος у дохалкидонских богословов. Автор предлагает новое прочтение уже известных текстов, рассматривающих вопросы триадологии и использующих термин ἐνυπόστατος совсем не в том значении, которое ему приписывали позднейшие авторы. Автор анализирует случаи употребления данного термина от Оригена до Кирилла Александрийского и приходит к выводу, что под ἐνυπόστατος следует понимать, прежде всего, нечто реально существующее. Для того чтобы подчеркнуть это значение, авторы дохалкидонского периода используют связку «воипостасное» - «истинное», а также противопоставление ἐνυπόστατος / ἀνυπόστατος. Указанное противопоставление следует рассматривать в контексте теории профорического логоса: Логос воипостасный, в отличие от безыпостасного профорического логоса, имеет свое собственное бытие, которому приписывается статус настоящего, подлинного, истинного бытия. Автор предлагает называть этот смысл «алетическим» и отличать от того смысла, который термин ἐνυπόστατος приобрел в эпоху христологических споров.
Воипостасное, ипостась, триадология, св. василий великий, алетическое, никейское богословие, ориген
Короткий адрес: https://sciup.org/140246704
IDR: 140246704 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10047
Текст научной статьи Об алетическом значении термина
Когда в VII в. одному византийскому автору потребовалось определить слово ἐνυπόστατος, то он дал ему не одно определение, а два. Во-первых, писал этот автор, слово ἐνυπόστατος может означать нечто поистине существующее (τὸ κατ’ ἀλήθειαν ὑπάρχον), и только во-вторых, то, что относится к ипостасным идиомам (τὸ ἐν τῇ ὑποστάσει ἰδίωμα) (Anastasius Sinaitae. Viae Dux. PG 89. Col. 61B). Большинство исследователей, занимающихся историей термина ἐνυπόστατος, обращают внимание на второе толкование и обходят стороной первое [Daley, 1993; Essen, 2001; Ferrara, 1997; dell’Osso, 2003]. Между тем если рассмотреть привычные свидетельства о «воипостас-ном», относящиеся к дохалкидонской эпохе, с точки зрения «по истине существующего», или, как мы предлагаем говорить, с точки зрения алетического значения этого термина, то из тени выходят весьма немаловажные мыслительные ходы, которые помогают понять развитие ипостасного богословия от св. Василия Великого до Леонтия Византийского. В данной статье мы не претендуем на всеохватность и исчерпываемость, а всего лишь предлагаем новый взгляд на уже известные тексты, касающиеся употребления ἐνυπόστατος в контексте рассуждения об отношениях Отца и Сына.
Использование термина ἐνυπόστατος в христологических спорах, как известно, в свое время вызвало продолжительную дискуссию (краткий очерк полемики см.: [Gleede, 2012, 61–67]). Особенно актуальным в этом смысле был анализ известного высказывания Леонтия Византийского, касающегося объяснения смысла указанного термина (см. по данному вопросу: [Zhyrkova, 2017, 193–218]). Не вдаваясь в историю
данной полемики, мы, однако, вынуждены констатировать тот факт, что исследование данного термина лежало практически всегда в плоскости нумерологической проблематики: соответствующие тексты прочитывались как отвечающие на вопрос о том, сколько природ и каким образом они сочетаются во Христе. Если признать во Христе две природы, утверждали несториане, то, значит, необходимо признать и две ипостаси, потому что, как они настаивали, нет природы без ипостаси. И это кажется, на первый взгляд, корректным2. Действительно, природа (φύσις) — понятие в высшей степени абстрактное. Как писал по другому поводу, но под влиянием, по всей видимости, Аристотеля, св. Григорий Нисский, природа это всегда нечто общее, и поэтому она неделимая, над ней нельзя производить никаких вычислительных действий [Бирюков, 2017, 315–317]. Ипостась же это нечто вполне конкретное и исчислимое. Поэтому природа в «реальности» существует не сама по себе, а только в ипостаси. В этом контексте ипостась рассматривается как природа в своем конкретном проявлении. Но если бы значение термина «ипостась» ограничивалось этим смыслом, то было бы непонятно, почему в рамках триадологии каппадокийцы учили о трех ипостасях (а не одной). Формула свт. Василия Великого «одна сущность и три ипостаси» выглядит парадоксальной только на первый взгляд, если мы отличаем сущность от ипостаси только идиоматически. Ипостась как проявление сущности, ее конкретная реализация, не может численно отличаться от себя так, как, например, отличается форма проявления — πρόσωπον. Однако ипостась это не просто сущность в ее идиоматике. Следует прислушаться к оттенкам высказываний свт. Василия Великого об «ипостаси». В программном 38-м письме св. Василий пишет:
Выговоривший слово «человек», неопределенностью значения передал слуху какую-то обширную мысль, так что хотя из этого наименования видно природу (φύσιν), но не обозначается им подлежащий (ὑφεστὸς) и собственно именуемый предмет (δηλούμενον ἰδίως ὑπὸ τοῦ ὀνόματος πρᾶγμα). А выговоривший слово «Павел» в означенном этим наименованием предмете указал надлежащую природу (ὑφεστῶσαν τὴν φύσιν). Итак, «ипостась» (ὑπόστασις) есть не понятие сущности неопределенной (οὐχ ἡ ἀόροστος τῆς οὐσίας ἔννοια) общности означаемого, ни на чем не останавливающейся, но такое [понятие], которое видимыми отличительными свойствами (διὰ τῶν ἐπιφαινομένων ἰδιωμάτων) изображает и очерчивает (παριστῶσα καὶ περιγράφουσα) в каком-нибудь предмете общее и неопределенное (τὸ κοινόν τε καὶ ἀπερίγραπτον) (Ep. 38, 3, 1–10).
Очевидно, что речь в этом фрагменте идет не просто о форме проявления природы, но о «собственно именуемом предмете». Т. е. ипостась указывает не столько на природу, к которой она имеет отношение, сколько на саму себя как на реально существующую. Этот принципиальный момент будет чрезвычайно важен в понимании термина ἐνυπόστατος, и мы к нему еще вернемся. Подчеркнем еще раз, что здесь речь идет о чем-то более существенном, чем просто идиоматическое отличие. Здесь явно подразумевается то, что один исследователь назвал «модусом актуализации», «осуществлением» [Dörrie, 1955, 35].
Тем не менее, этот имплицитный смысл не играл роли в техническом отношении, для триадологии важен был именно идиоматический смысл, который и получил доминирование в патристической мысли последующего периода. Однако реликты упомянутого смысла оставались и могут быть зафиксированы в различных текстах, связанных с употреблением понятия ἐνυπόστατος.
Несмотря на широкое распространение того технического понимания «ипостаси», которое сформулировал свт. Василий Великий [Zachhuber, 2001, 65–85], в первой половине VI в. этот термин потребо вал специального разъяснения (Leontius Byzantini.
Contr. Nest. II 1. PG 86. Col. 1528D–1532A). По всей вероятности, такая необходимость была связана прежде всего с утратой необходимого для дальнейшей богословской полемики упомянутого смысла «актуализированного модуса». Термин ἐνυπόστατος был призван заменить этот смысл, тогда как в период триадологических дискуссий этот термин не играл такой роли. Вместе с тем, он содержал в себе тот же самый смысл «актуализированного модуса», который можно проследить в связи со сближением понятий «ипостасный» и «истинный». Как мы увидим далее, «воипостасное» в период триадологических споров содержало в себе смысл, близкий к понятию «истинное».
Мы обращаем такое пристальное внимание на термин «ипостась», поскольку, как заметил один исследователь, «толкование богословского значения термина [ἐνυπόστατος] непосредственно зависит от смыслового содержания, вкладываемого в понятие „ипостась“» [Зинковский, 2014, 393]. Ариане принимали формулу «три ипостаси», однако «ипостась» они понимали в смысле «усии», и поэтому отказывались признавать общую сущность Сына и Отца. Для них ипостаси не снисходят по убывающей друг от друга, а отличаются изначально по существу. Если Сын единосущен Отцу, то нарушается единство Божества. О страхе перед тем, чтобы впасть в подобное отождествление, свидетельствует, например, фраза свт. Василия Великого из трактата «О Святом Духе»:
И никто да не подумает, будто бы я утверждаю три начальственные ипостаси (ἀρχικὰς ὑποστάσεις), и что действование (ἐνέργειαν) Сына несовершенно. Ибо одно Начало существ (ἀρχὴ γὰρ τῶν ὄντων μία), созидающее чрез Сына и совершающее в Духе (Basilius Theol. De Spiritu Sancto, 16).
Это сложное место, которое вызывает множество противоречивых интерпре-таций3, на самом деле, как нам кажется, следует понимать, заменив «ипостась» на «сущность». Не три сущности, имеет в виду св. Василий, чтобы не впасть в арианство, а одна, Божественная. «Одно Начало» — это не монархизм (что было бы странно), а утверждение все той же единой сущности Бога, «созидающего через Сына и в Духе». Почему же св. Василий употребляет здесь вместо слова «усия» слово «ипостась»? Ведь он сам призывал к различению данных терминов уже в 60-е гг., т. е. еще до написания трактата «О Святом Духе»?
С нашей точки зрения, здесь термин «ипостась» употреблен в алетическом смысле: речь идет о сущности, которая фундирует саму себя. Очевидно, Логос находит свое основание не в Самом Себе, а в Боге Отце, который этот Логос порождает «от века». В этом смысле, говорит св. Василий, мы не можем утверждать три ипостаси, но только одну (что, однако, не должно вводить нас в заблуждение касательно триадологических взглядов создателя формулы «одна сущность, три ипостаси»).
Если мы игнорируем указанный алетический смысл термина «ипостась», то будет совершенно непонятно не только указанное выражение свт. Василия, но и многие места из св. Афанасия Александрийского, например известное место, где святитель якобы «еще не различал» понятия «усия» и «ипостась». Учитывая отношение ариан к «трем ипостасям», было бы по меньшей мере странно, если бы св. Афанасий употреблял эти понятия совершенно как тождественные. Свт. Афанасий пишет:
Ἡ δὲ ὑπόστασις οὐσία ἐστὶ, καὶ οὐδὲν ἄλλο σημαινόμενον ἔχει ἢ αὐτὸ τὸ ὄν·. <…> Ἡ γὰρ ὑπόστασις καὶ ἡ οὐσία ὕπαρξίς ἐστιν. Ἔστι γὰρ καὶ ὑπάρχει (Ep. ad Afros episcopos 4. PG 26. Col. 1036).
Ипостась есть сущность и не означает ничего другого, кроме самого сущего. <…>
Ибо ипостась и сущность есть бы тие. Ибо то, что есть, оно и бывает.
Очевидно, что «само сущее» здесь не то же самое, что просто существующее. В греческом тексте видна эта тонкая грань: ипостась есть сущность (οὐσία), но такая, которая αὐτὸ τὸ ὄν, сама есть (т. е. существует, присутствует, реально, это бытие-для-нас, а не просто понятие, каковым является абстрактная усия). Чтобы подчеркнуть этот момент, свт. Афанасий добавляет, что ипостась есть ὕπαρξις, т. е. бытие как таковое.
В этом свете становится понятным, почему староникейцы часто употребляли понятия οὐσία и ὑπόστασις как синонимы. Говоря «ипостась», они стремились подчеркнуть присутствие, реальность, бытийность того, о чем они говорили. Употребляя термин «усия», они обращали внимание на общее, мыслимое (и потому в достаточной степени абстрактное). Св. Иоанн Дамаскин уже не видит этого смысла, поскольку мыслит в аристотелианской парадигме: ипостась у него либо просто сущность, либо, в узком смысле, неделимое, отдельное лицо-просопон [Zhyrkova, 2012, 375–387]. Але-тический смысл уже абсолютно неведом ему.
Таким образом, в самом термине «ипостась» заключался алетический смысл, который развивается в дальнейшем при употреблении термина «воипостасный». Отношение этих двух терминов проясняется при анализе фрагментов, в которых «во-ипостасный» употребляется у дохалкидонских отцов.
Итак, обратимся к истории термина ἐνυπόστατος. Как сообщает нам Глиди, термин ἐνυπόστατος был, по-видимому, чисто христианским изобретением, в языческих текстах он не встречается. Впрочем, немаловажным фактом, к которому мы еще вернемся, является то, что имел хождение антоним нашего термина — ἀνυπόστατος [Gleede, 2012, 15–16].
До середины IV в. ἐνυπόστατος не пользовался широкой популярностью и, в основном, встречался в текстах, так или иначе связанных с оригенистской традицией. Собственно, Оригена считают изобретателем этого термина [Gleede, 2012, 15]. До Оригена этот термин встречался только у сщмч. Иринея Лионского, но мы солидаризуемся с Грантом в том, что выражение с нашим термином в этом фрагменте — поздняя вставка, сделанная каким-то оригенистом [Grant, 1963, 213]. Характерно, впрочем, в каком именно выражении интересующий нас термин был употреблен: «τοῦ ἐνυποστάτου Λόγου τύπον ἀψευδῆ» («воипостасного Логоса образ неложный») (Adversus Haereses. 488). Мы видим, что уже здесь (даже если это позднейшая вставка) присутствует смысловая связка «воипостасный» — истинный («неложный»).
У Оригена мы находим три фрагмента, в которых он употребляет слово ἐνυπόστατος, но, что любопытно, не в смысле идиоматическом или алетическом, а, скорее, в смысле укорененности Логоса в бытии Бога Отца (т. е. акцентируется приставка ἐν-). Возможно, Ориген, таким образом, использовал искусственный антоним термину ἀνυπόστατος для выражения идеи причинности, существующей между Отцом и Сыном: бытие Отца — это причина бытия Сына, поэтому Сына можно назвать «воипостасным». Алетический смысл, как нам кажется, присоединился к этому первичному, оригеновскому смыслу позднее, будучи следствием из идеи Отца как источника бытия для всего, что существует (вероятно, это как-то связано с платоновской традицией, но в этой статье мы не рассматриваем связи «воипостас-ного» с неоплатонизмом). Итак, в первом фрагменте Ориген говорит:
Τὴν σοφίαν ἐνταῦθα δισσῶς ἐπιλαβεῖν, τὴν ἐκ Πνεύματος ἁγίου φημὶ ἐν λόγοις καὶ γραφῇ δοθεῖσαν τοῖς θεόφροσιν, δι’ἧς καὶ ἡ ἐπίγνωσις τοῦ Θεοῦ τῷ κόσμῳ ἐγνωρίσθη∙ ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν ἐνυπόστατον Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ, τὸν ἐξ οὐκ ὄντα εἰς τὸ εἶναι παραγαγόντα τὰ σύμπαντα τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ (Origenes. Expositio in Proverbia. PG 17. Col. 185B).
Отсюда Софию следует рассматривать двояко: есть София от Духа Святого, словами и буквами поучающая богоразумных, через что и полнота знания о Божественном мире получается; другая же София это воипостасный Сын и Божественный Логос, который из несущего в сущее произвел все, что касается Его премудрости.
В данном фрагменте термин употреблен технически, в целях подчеркивания самостоятельности Логоса по отношению к Богу Отцу, но в то же время и для того, чтобы передать идею единой Божественной сущности Отца и Сына (для этого он использует параллелизмы: «воипостасный» (Сын) — «Божественный» (Логос)).
Во втором фрагменте Ориген толкует Второзаконие (16:20) и называет Христа «истинным экклезиастом»:
Χριστὸς γάρ ἐστιν ὁ ἀληθὴς ἐκκλησιαστὴς, τῆς ἐκκλησίας ἡ κεφαλὴ, καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν ἡ ἀνωτάτω καὶ ἐνυπόστατος σοφία καὶ λόγος (Origenes. Expositio in Proverbia. PG 17. Col. 28B).
Ибо Христос есть истинный экклезиаст, глава Церкви, и Бога Отца нашего высочайшая София и воипостасный Логос.
Помимо связки «воипостасного» Логоса с Софией (характерной также и для первого фрагмента), обратим внимание на прилагательное ἀληθὴς. Уже здесь мы видим существенную для понимания термина ἐνυπόστατος его смысловую связанность с понятием истинного существования и истинности вообще.
В третьем фрагменте (который, впрочем, вызывает вопросы у исследователей и может Оригену не принадлежать [Gleede, 2012, 14]) употребление термина «воипо-стасный» относится не к Логосу, а к рождению, но по контексту характеризует Его как рожденного из сущности Отца:
Οὐ σῶμα ὁ Θεός· διὰ τοῦτο οὐκ ἀσταρεῦσιν ἢ κίνησιν, ἤ τι τῶν τοιούτων, ἃ ἐν τοῖς σώμασι θεωρεῖται, ὁ Θεὸς ὁ ἀσώματος ἐγέννησεν. ἐνυπόστατος ἡ γέννησις· ἀπετέχθη ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς ὁ Υἱός (Origenes. Scholia in Matthaeum. PG 17. Col. 309).
Бог не тело: поэтому не подвержен ни движению, ни чему-либо из того, что случается с телами. И этот Бог бестелесный родился. Это рождение воипостасное: из сущности Отца рождается Сын.
Здесь очевидны смыслы, которые едва ли Ориген мог иметь в виду, в частности проблема рождения Сына ἐκ τῆς οὐσίας Отца, что было свойственно скорее периоду триадологических споров, чем времени Оригена. Кроме того, в этом фрагменте термин «воипостасное» явно нагружен позднейшими, христологическими смыслами.
Спустя некоторое время термин ἐνυπόστατος всплывает в связи с полемикой вокруг учения Павла Самосатского. В малоизученном т. н. «Письме Имения» самостоятельность Сына защищается с помощью противопоставления ἀνυπόστατος / ἐνυπόστατος. Автор письма пишет, что Словом Бог сотворил мир, но Слово не следует рассматривать как инструмент, как ἀνυπόστατος ἐπιστήμη, Слово следует воспринимать как ζῶσα ἐνέργεια καὶ ἐνυπόστατος [Paulus Samosatener, 1927, 43]. Если ἀνυπόστατος значит «лишенное самостоятельного существования», то ἐνυπόστατος должно значить нечто, что таким существованием наделено. Здесь явно речь идет не об ипо-стасных идиомах, отличающих Логос от Бога Отца, а о реальности ипостаси Логоса. Логос Отца это не просто «рассуждение» Бога, как это бывает у человека, не имеющее самостоятельного бытия, а самая настоящая реальность, вполне независимая. Эта характерная особенность понимания воипостасного, отличающего Божественный Логос от человеческого, будет прослеживаться и далее [Lang, 1998, 630–657].
Анализ употребления слова ἐνυπόστατος в терминологическом смысле у богословов IV в. показывает, что понимать его следует в контексте стоического различения видов логоса: логоса явного (λόγος προφορικός) и логоса скрытого (λόγος ἐνδιάθετος) (см.: [Mühl, 1962, 7–56]). Как явный логос (или произнесенный), так и скрытый (или помысленный) не могут рассматриваться как имеющие сущность, поскольку они находятся во времени и претерпевают изменение от начала к концу и перестают существовать. Иначе говоря, λόγος προφορικός и λόγος ἐνδιάθετος не имеют ипостас-ного существования, они целиком субъективны, в том смысле, что зависят от говорящего и мыслящего субъекта. Воипостасный же логос (λόγος ἐνυπόστατος) мыслится существующим не просто реально, но и объективно, вне времени. Именно поэтому св. Василий Великий и другие отцы-каппадокийцы могли утверждать, что Отец родил Сына и при этом Сын не после Отца. Поэтому невозможно сказать, как говорили ариане, что было время, когда Сына не было (по логике человеческого рождения). Отношения Отца и Сына реализуются вне времени, в подлинном бытии, которое и носит наименование воипостасного. Когда, например, св. Епифаний прилагает определение «воипостасный» к Отцу, Сыну и Святому Духу4, он стремится показать, что троичные отношения существуют в реальности вне времени, и поэтому можно говорить о том, что Сын подлинно (воистину, ἀληθινός) Единородный, рождается от Отца, а Отец извечно рождает Сына. И при этом Сын не утрачивает Своей ипо-стасности, не становится тварью, сохраняя не только независимость Своего существования, но и подлинность. Очень точно об этом говорит свт. Кирилл Иерусалимский:
Ἐγέννησεν ὁ Πατὴρ τὸν Υἱὸν, οὐχ ὡς ἐν ἀνθρώποις γεννᾷ νοῦς λόγον. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς ἐν ἡμῖν ἐνυπόστατός ἐστιν ὁ δὲ λόγος, λαληθεὶς καὶ εἰς ἀέρα διαχυθεὶς ἀπόλλυται. Ἡμεῖς δὲ οἴδαμεν τὸν Χριστὸν γεννηθέντα λόγον οὐ προφορικὸν, ἀλλὰ Λόγον ἐνυπόστατον, ζῶντα, οὐ χείλεσι λαληθέντα καὶ διαχυθέντα, ἀλλ’ ἐκ Πατρὸς ἀϊδίως καὶ ἀνεκφράστως, καὶ ἐν ὑποστάσει γεννηθέντα (Cyrillus Hierosolym. Catecheses ad illuminandos 11, 10, 1–7).
Отец родил Сына не так, как в человеческом существе разум рождает слово. Хотя разум в нас воипостасный, но речь проходит сквозь воздух и исчезает. Христос же был рожден не как логос профорический, но как воипостасный Логос, живой, не произносимый губами и исчезающий, но приходящий от Отца извечно, рожденный в ипостаси.
Здесь мы находим то же противопоставление не сущему слову человека Божественного логоса. Если бы дело было только в обозначенной св. Кириллом рожденно-сти в ипостаси Отца, то не было бы понятно указанное противопоставление, важность которого в понимании отношения Логоса не только к Отцу, но и к миру трудно отрицать. Воипостасное здесь следует понимать как истинное бытие, не условное, как бытие произносимых человеком слов, а как безусловное и вечное бытие рожденного Самим Богом Слова. Эту же мысль мы находим кратко выраженную в «Панари-оне» св. Епифания Кипрского:
Καὶ οὐ προφορά τις ὤν, ἀλλ’ ἐνυπόστατος θεὸς λόγος (Epiphanius. Panarion 3, 254, 7).
И не как явленное нечто сущий, но как воипостасный Бог Логос.
В сходном ключе пишет и св. Мелетий Антиохийский, согласно противопоставлению, которое находим в «Панарионе» св. Епифания Кипрского:
Εἰ δὲ ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ θεός ἐστιν, οὐκ ἔστιν ἀνυπόστατος λόγος, ἀλλὰ ἐνυπόστατος θεὸς Λόγος, ἐκ τοῦ θεοῦ γεγεννημένος ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως· (Epiphanius. Panarion 3, 73, 31).
Если Божественный Логос есть Бог, то не безыпостасен логос, но воипостасен Бог Логос, из Бога рожденный безначально и безвременно.
Эту фразу можно рассматривать как ключ ко всей триадологической мысли до-халкидонского периода. Именно в контексте этой мысли следует понимать идею отношения Отца и Сына. Отец рождает Сына вне времени, поэтому нет смысла говорить о времени, когда Сына не было. Воипостасность Логоса объясняет дохалкидон-скую триадологию и антиевномианскую мысль отцов-каппадокийцев.
Вместе с тем, если мы рассмотрим эту ключевую фразу в контексте, то мы увидим, что смысл понятия «воипостасный» надо искать не просто в идее отдельного и независимого существования, но и в идее существования подлинного, существования по преимуществу, или бытия самого по себе. Это значение подлинного бытия в понятии ἐνυπόστατος, часто упускаемое исследователями, мы и предлагаем называть алетическим.
Οὐ δύναται οὖν, ὡς προεῖπον, ὁ ἐν ἀνθρώπῳ λόγος ἄνθρωπος καλεῖσθαι, ἀλλὰ λόγος ἀνθρώπου. εἰ δὲ ὁ Λόγος τοῦ θεοῦ θεός ἐστιν, οὐκ ἔστιν ἀνυπόστατος λόγος, ἀλλὰ ἐνυπόστατος θεὸς Λόγος, ἐκ τοῦ θεοῦ γεγεννημένος ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως· «ὁ γὰρ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ εἴδομεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Epiphanius. Panarion 3, 7, 30).
Итак, невозможно, как сказано было ранее, чтобы в человеке логос назывался человеком, но логос зовется человеческим. Если Божественный Логос есть Бог, то не безыпостасен логос, но воипостасен Бог Логос, из Бога рожденный безначально и безвременно: «Ибо Логос стал плотью и обитал с нами, и видели Его славу, славу как Единородного от Отца, исполненного благодати и Истины» (Ин 1:14–15).
Здесь понятие истины (ἀληθεία) связывается с понятием воипостасного. В другом месте «Панариона» эта связка алетического и воипостасного встречается нам снова, при этом алетическое отмечается как причина воипостасности:
Οὐκέτι λόγος ἀνυπόστατος, ἀλλὰ ἐνυπόστατος, διὰ τὸ «μονογενής, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Epiphanius. Panarion 3, 8, 32).
Больше не безыпостасное слово, но воипостасное, поскольку «единородный, исполнен благодати и истины».
«Истина», наряду с единородностью и полнотой благодати, становится определяющей причиной для воипостасности Логоса. Логос воипостасен постольку, поскольку Он исполнен истины. Ту же связку воипостасного-истинного мы находим и в другом месте:
Εστιν μία θεότης καὶ ἓν θέλημα καὶ μία κυριότης. ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ πατρὸς καὶ τὸ πνεῦμα ἐκπορεύεται, ἐνυπόστατον ὂν καὶ ἐν ἀληθείᾳ τέλειον, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας (Epiphanius. Panarion 2, 349, 16).
Есть одна Божественность и одна воля и одна господственность. Из самого Отца исходит Дух, будучи воипостасным и во истине совершенным, Духом истинным.
Наконец, есть фрагмент, где эта связка подчеркивается троякой отсылкой к истинности:
῾Ημεῖς δὲ ἀληθῶς θεὸν ἐπιστάμεθα, ἀληθῆ καὶ ὄντα ἀληθῶς ἐνυπόστατον βασιλέα, ἀκατάληπτον, ποιητὴν τῶν ὅλων, ἕνα θεόν, καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸν μονογενῆ θεόν (Epiphanius. Panarion 3, 238, 19).
Мы же познали воистину Бога, поистине и сущего истинно воипостасного царя, неразрушимого, творца всех, единого Бога, и из Него Единородного Бога.
Этот фрагмент примечателен тем, что в нем указанная алетичность проявляется не по отношению к Сыну, но по отношению к Богу Отцу, названному здесь царем, единым Богом, из Которого рождается Единородный Сын. Воипостасность подчеркивается не только выражением «существующий истинно» (ὄντα ἀληθῶς), но и дополнительными выражениями, имеющими в своей основе существительное ἀληθεία. Опираясь на Дэйли, Глиди весьма проницательно замечает, что ἐνυπόστατος «does not signify a quasi-accidental inherence of Christ’s human nature in the person of the divine Logos, but simply its reality» [Gleede, 2012, 5].
После 362 г. происходит примирение оригенистской концепции триипостасно-сти и никейских омоусиан и открывается широкий простор для толкований. Далее термин встречается у Псевдо-Афанасия, у Дидима Слепца (сначала тексты, в которых встречаются интересующие нас фрагменты, приписывались св. Василию Великому), у свтт. Кирилла Александрийского и Иоанна Златоуста.
В одном из трактатов, который приписывали свт. Афанасию Александрийскому, мы находим любопытное свидетельство, подчеркивающее связь воипостасности с рождением Христа из сущности Отца.
Εἰ δὲ οὐχ ᾗ γεννητός ἐστιν ὁ υἱὸς γεννᾷ οὐδὲ ὁ πατὴρ ᾗ ἀγέννητός ἐστι γεννᾷ, ἀλλὰ θεὸς ὢν καὶ αὐτοδόξα ἀπαύγασμα ἔχει γέννημα θεὸν ἐνυπόστατον. εἰ γὰρ μὴ ἐκ τῆς οὐσίας ἐγέννησεν, οὐδὲ πατήρ ἐστι κατ’ οὐσίαν (Athanasius Alexandrinus. De sancta trinitate. PG 28. Col. 1180).
Если же ни Сын не рождает, будучи рожденным, ни Отец не рождает, будучи нерожденным, но поскольку Он Бог и сияние собственной славы, то рождает Бога воипостасного. Ибо если не из сущности родился, не есть Отец по сущности.
Отца отличает то, что Он Сам рождает, но не рождается, а Сына — то, что Он рождается, но не рождает (в отличие от мира людей, где отец сам когда-то был рожден), и эти отличия — явления метафизического порядка, они «происходят» вне времени. Рождение Сына предвечно, как сияние, которое исходит от солнца, и поэтому Сын может быть назван воипостасным Логосом. В другом фрагменте автор трактата развивает эту мысль на примере толкования знаменитой фразы из Послания апостола Павла к Евреям (1:3) о том, что Христос есть образ ипостаси (χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως) Отца:
Ἀλλ’ οὐ μόνον εἴρηται χαρακτὴρ ὑποστάσεως, ἀλλὰ καὶ Υἱὸς, ἵνα τὸ ἐνυπόστατον νοήσωμεν. Ἀπαύγασμα γὰρ εἴρηται, διὰ τὸ συναϊδίως ἐξ αὐτοῦ εἶναι· χαρακτὴρ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς ὑποστάσεως· Υἱὸς διὰ τὸ ἐνυπόστατον. Ἀνόμ. Καὶ ἡμεῖς λέγομεν πάντα εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ (Athanasius Alexandrinus. De sancta trinitate. PG 28. Col. 1125).
Но Он не только называется образом ипостаси, но и Сыном, чтобы мы мыслили Его воипостасным. Ибо называется сиянием, чтобы было ясно, какого рода бытие из Него происходит: образом называется по причине подобия ипостаси, а Сыном из-за воипостасного. Аномей . И мы говорим, что все бытие от Бога.
В том же трактате:
Ὀρθ. Παρὰ τῷ Δαβίδ· «Τῷ Λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, καὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν.»
Μακεδ. Ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ στόματος οὐκ ἔστι τὸ ἅγιον Πνεῦμα.
Ὀρθ. Οὐκοῦν οὐδὲ ὁ Λόγος Υἱός.
Μακεδ. Ἐνταῦθα οὐ τὸν ἐνυπόστατον Λόγον λέγει, οὐδὲ τὸ ἐνυπόστατον Πνεῦμα.
Ὀρθ. Ἵνα σοι καὶ δοθῇ λόγον ἔχειν προφορικὸν τὸν Θεὸν, εἰπὲ ἡμῖν, ὁ ἐνυπόστατος Λόγος ἐστὶν ὁ τὸν οὐρανὸν στερεώσας, ἢ ὁ προφορικός;
Μακεδ. Τὸν προφορικὸν λέγω, τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ· «Αὐτὸς γὰρ εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν· αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.» Εἶπε δὲ καὶ ἐνετείλατο τῷ Υἱῷ, ἐνυποστάτῳ Λόγῳ· ὁ δὲ τὴν ἐντολὴν λαβὼν Υἱὸς ἔκτισεν.
Ὀρθ. Οὐκέτι οὖν τῷ λόγῳ αὐτοῦ ἐστερεώθησαν, ἀλλὰ τῇ τοῦ Υἱοῦ ἐνεργείᾳ (Athanasius
Alexandrinus. De sancta trinitate. PG 28. Col. 1237–1240).
Православный. У Давида: «Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их» (Пс. 32:6).
Македонианин. Но Дух уст не есть Святой Дух.
Прав. Таким образом, и Логос не Сын.
Макед. Отсюда не называет воипостасным Логос, ни воипостасным Дух.
Прав. Раз ты учишь, что Бог имеет профорический логос, скажи нам, это воипо-стасный Логос небо основал или профорический?
Макед. Я считаю, что Его повеление было профорическим: «Ибо Он сказал, и стало. Он повелел, и создалось». Сказал же и повелел Сыну, воипостасному Логосу: Сын же, приняв приказ, создал.
Прав. Итак, не Словом Своим установил, но энергией Сына.
Этот весьма любопытный диалог между православным и последователем Македония демонстрирует нам, по крайней мере, две вещи. Во-первых, профориче-ский, произносимый логос очевидным образом противопоставляется воипостасному Логосу (либо тот, либо другой создал мир — Псевдо-Афанасий формулирует это как дилемму). Во-вторых, воипостасность Логоса не отрицает ни православный, ни македонианин, но они понимают его различным образом. Македонианин считает, что воипостасность не связана с Логосом Отца, а характеризует всего лишь действо-вания Сына по механическому приказу Отца (слово Отца тут подобно изменчивому, человеческому слову). Для Псевдо-Афанасия же, по всей видимости, воипостасность Логоса заключена в том, что это и есть то Слово Бога, по которому создается мир, т. е. нет никаких посредствующих материальных звеньев. Отцу незачем говорить что-то Сыну, поскольку Слово Отца и есть Сын. Поэтому Он и воипостасен, и имеет сущность в Отце. Для понимания воипостасности в триадологический период этот момент можно считать одним из принципиальных.
Рассмотрим еще несколько фрагментов, в которых встречается термин ἐνυπόστατος. Наиболее известными являются фрагменты из сочинений Дидима Слепца. В одном из них он связывает воипостасность не только с истинностью (χαρακτῆρα ὑποστάσεως ἐνυπόστατον καὶ ἀψευδέστατον), но и использует здесь характерный образ «сияния славы» (ἀπαύγασμα δόξης), который служит ему для выражения вечности, собезна-чальности (συνάναρχον) Отца и Сына (Didymus Caecus, De Trinitate 16, 44). Отец и Сын соединяются по существу, но различаются по ипостаси. Сын — образ ипостаси Отца, но Сам воипостасен. Эта же отсылка на «образ ипостаси» встречается и в другом месте:
Ἄναρχος ὁ πατήρ. εἰμί. οὐ γὰρ ἦν ὅτε οὐκ εἶχεν τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ τὸ ἐνυπόστατον ἀπαύγασμα καὶ τὸν „χαρακτῆρα τῆς ὑποστάσεως” καὶ τὴν „εἰκόνα τῆς θεότητος”, ἐμέ (Didymus Caecus, De Trinitate 26, 15).
Безначален Отец. [Он говорит] Я есть, ибо не было, чтобы не имел имени Отца, воипостасного сияния славы Его, «образа ипостаси» и «образа Божественности».
В данном фрагменте говорится о том, что отношения Отца и Сына не подпадают под временную характеристику, поскольку существуют извека. Поэтому Сын всегда был образом ипостаси и Божественной сущности Отца, Логос всегда был воипостасен. В другом месте Дидим связывает воипостасное бытие с истинностью (Didymus Caecus. Fragmenta in psalmos 26, 1). Эта же связь истинности с воипостасным прослеживается в проповедях св. Иоанна Златоуста, который в одном из рассуждений об истинности Тела Христова говорит, что Его воскресение было истинным и воипостасным (ἀληθῆ καὶ ἐνυπόστατον ἀνάστασιν) (Joannes Chrysostomus. In principium Actorum. PG 51. Col. 107).
Эта же тема, вместе с противопоставлением ἀνυπόστατος / ἐνυπόστατος, встречается в сочинениях св. Кирилла Александрийского, который так полемизирует с Евноми-ем в «Толковании на Евангелие от Иоанна»:
Εἰ μὴ αὐτός ἐστιν ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ὁ Λόγος αὐτοῦ, ἕτερος δέ τις ἐνυπάρχει τῷ Θεῷ παρ’ αὐτὸν, ὃν ἐνδιάθετον ὀνομάζουσιν, οἱ τὴν ἐναντίαν προϊσχόμενοι δόξαν λεγέτωσαν ἡμῖν, πότερόν ποτε ὁ διὰ τῆς αὐτῶν ἀμαθίας ἐπινοούμενος λόγος
ἐνυπόστατός ἐστιν, ἢ οὐχί· εἰ μὲν γὰρ ἐροῦσιν ὑφεστάναι καθ’ ἑαυτὸν ἐν ὑπάρξει νοούμενον ἰδίᾳ, δύο δὴ πάντως ὁμολογήσουσιν εἶναι υἱούς· εἰ δὲ ἀνυπόστατον ἐροῦσιν αὐτὸν, οὐδενὸς μεσολαβοῦντος ἔτι καὶ διατειχίζοντος τὸν Υἱὸν, πῶς ἔσται τρίτος ἐκ Πατρὸς, καὶ οὐχὶ μᾶλλον προσεχῶς, ὡς Υἱὸς πρὸς Πατέρα; (Cyrillus Alexandrinus. Commentarii in Joannem 1, 57, 19)
Если Сам Единородный Сын Бога и Отца не есть Слово Его, но существует в Боге другое некое (Слово) помимо Его, которое называют внутренним, то держащиеся противоположного мнения пусть скажут нам: измышляемое по невежеству их Слово — воипостасно или нет? Если скажут, что Оно существует Само по Себе в собственной ипостаси, то, без сомнения, должны будут признать бытие двух Сынов. А если скажут, что Оно не ипостасно, при отсутствии всякого уже посредства и разделения между Сыном и Отцом, то каким образом будет третьим из Отца, а не наоборот — непосредственно, как Сын в отношении к Отцу?
Этот фрагмент помогает понять значение термина ἀνυπόστατος: здесь, очевидно, св. Кирилл говорит не о чем-то, что не имеет ипостаси в другом, но о том, что не имеет ипостаси вообще, т. е. оказывается невозможным перевести его статус из внутреннего в нечто внешнее, третье, в профорическое, напоминающее человеческое слово. Таким образом, Логос должен быть воипостасным. Ибо ὁ τῶν ἀνθρώπων λόγος οὔτε ἐνυπόστατός ἐστιν, οὔτε μετὰ τὸ ῥηθῆναι σώζεται (Cyrillus Alexandrinus. Thesaurus de sancta consubstantiali trinitate. PG 75, 297, 39) («человеческое слово не воипостасное, и будучи изреченным не спасает»).
Проблема «третьего из Отца» не нова, она встречается еще в спорной пятой книге свт. Василия Великого «О Святом Духе»:
Εἰ ὁ Υἱὸς ἐνέργημα, καὶ οὐ γέννημα, οὔτε ὁ ἐνεργήσας, οὔτε μὴν τὸ ἐνεργηθὲν αὐτός ἐστιν (ἕτερον γὰρ ἦν ἡ ἐνέργεια παρὰ ταῦτα), ἀλλὰ καὶ ἀνυπόστατος· οὐδεμία γὰρ ἐνέργεια ἐνυπόστατος. Εἰ δὲ τὸ ἐνεργηθὲν, τρίτος ἐκ Πατρὸς, καὶ οὐκ ἀμεσίτευτος. Ὁ ἐνεργήσας γὰρ πρῶτος, εἶτα ἡ ἐνέργεια, καὶ οὕτω τὸ ἐνεργηθέν. Εἰ μονογενὴς ὁ Υἱὸς, διὰ τὸ μόνος ἐκ μόνου γεγεννῆσθαι· μονόκτιστος κυριώτερον ἂν λέγοιτο, κτίσμα μὲν ἀληθῶς κατ’ Εὐνόμιον ὢν, γέννημα δὲ ψευδωνύμως καλούμενος (Basilius Theol. Adversus Eunomium. PG 29. Col. 689).
Если Сын есть действие, а не порождение, то Он не есть ни действовавший, ни само произведение действия (ибо действие отличается от того и другого), но и безыпостасен: ибо никакое действие не воипостасно. А если произведение действия, то третий от Отца, а не непосредственный. Ибо действовавший — первый, а затем действие, и потом уже произведение действия. Если Сын единороден потому, что родился единый от единого, то свойственнее было бы называть Его единотварным, ибо, согласно с Евномием, Он истинно есть тварь, рождением же называется ложным образом.
В данном фрагменте, которым мы завершим ряд примеров, демонстрирующий алетический смысл термина ἐνυπόστατος, указывается очень важный момент, а именно: действие (ἐνέργεια) не может быть воипостасно, поскольку оно связано с движением, а движение — со временем. Отношения же Отца и Сына находятся за пределами времени.
Будет, наверное, слишком смелым сравнивать ранневизантийскую патристику и современную философию, но нам видится некоторая аналогия между алетическим смыслом ἐνυπόστατος и знаменитым хайдеггеровским Dasein’ом. Следует, конечно, сразу оговориться, что это лишь аналогия. Хайдеггер говорил о дазайне человека, но то, как он понимал бытие-присутствие, можно отнести и к воипостасному бытию Логоса. Логос воипостасный — это не профорический, мимотекущий логос сиюминутного бытия, а само это бытие, бытие по преимуществу. Речь Бога, которая непосредственно создавала реальный мир. В первой части «Бытия и времени» Хайдеггер пишет: «Das Sein erhält den Sinn von Realität, Die Grundbestimmtheit des Seins wird die Substanyialität. <…> Erhält denn das Sein überhaupt den Sinn von Realität» [Heidegger, 2001, 201]. Не есть ли это описание ипостаси Логоса, которая делает реальным абстрактное бытие Божественной сущности?
Итак, ипостась это не просто конкретное бытие (видовое, в отличие от родового), но бытие реальное — т. е. истинное (отличное от бытия в понятии, в мысли, от бытия идеи). Воипостасное, таким образом, это для богословов триадологического периода одна природа, укорененная в другой, ипостасной, природе. Воипостасное — это, прежде всего, истинное, существующее как таковое. Это то бытие, которое присутствует, здесь-бытие, в отличие от абстрактного бытия сущности или природы. В каком-то смысле можно говорить о том, что Божественный язык, подобно хайдег-герианскому, бытийствует, преодолевая разрыв между трансцендентным Богом и человеческим бытием. И истинность воипостасного Логоса заключается не только в том, что Он одной сущностью с Богом Отцом, но и в том, что Он явился в мир.
Список литературы Об алетическом значении термина
- Anastasius Sinaitae. Viae Dux. PG 89. Col. 35-327.
- Athanasius Alexandrinus. De sancta trinitate. PG 28. Col. 1115-1289.
- Athanasius Alexandrinus. Ep. ad Afros episcopos 4. PG 26. Col. 1029-1049.
- Basilius Theol. Adversus Eunomium (libri 5). PG 29. Col. 468-774.
- Basilius Theol. De Spiritu Sancto. PG 32. Col. 67-219.
- Basilius Theol. Ep. 38. PG 32. Col. 325-340
- Cyrillus Alexandrinus. Commentarii in Joannem / Ed. P. E. Pusey. In 3 vols. Oxford: Clarendon Press, 1872. Vol. 1.
- Cyrillus Alexandrinus. Thesaurus de sancta consubstantiali trinitate. PG 75. Col. 9-1075.
- Cyrillus Hierosolym. Catecheses ad illuminandos. PG 33. Col. 331-1059.
- Didymus Caecus. De Trinitate (lib. 1) [Sp.] / Ed. J. Hönscheid. Meisenheim am Glan: Hain, 1975.
- Didymus Caecus. Fragmenta in Psalmos / Ed. E. Mühlenberg. Berlin: De Gruyter, 1975.
- Epiphanius. Ancoratus und Panarion. Bd. 1. Ancoratus / Ed. K. Holl. Leipzig, 1915.
- Epiphanius. Ancoratus und Panarion. Bd. 3. Panarion / Ed. K. Holl. Leipzig, 1933.
- Irenaei Sancti episcope Lugdunensis libri quinque adversus haereses / Ed. W. W. Harvey. Cambridge, 1857. Vol. 2.
- Joannes Chrysostomus. In principium Actorum (homiliae 14). PG 51. Col. 107.
- Leontius Byzantini. Contr. Nest. PG. 86. Col. 1267-1599.
- Origenes. Expositio in Proverbia (fragmenta e catenis). PG 17. Col. 161-232.
- Origenes. Scholia in Matthaeum. PG 17. Col. 289-310.
- [Ps.-Dionysios of Alexandria]. Eine fingierte Korrespondenz mit Paulus dem Samosatener / Ed. E. Schwartz. SbBAW. München, 1927.
- Мар Исхак Ниневийский. Книга о восхождении инока: Первое собрание (трактаты I-VI) / Общ. ред. и пер. с сир., араб., греч. А. В. Муравьева. М., 2016. литература
- Бирюков Д. С. Перипатетические линии в учении Григория Нисского о едином человеке // Аристотелевское наследие как конституирующий элемент европейской рациональности. Материалы Московской международной конференции по Аристотелю. Институт философии РАН, 17-19 октября 2016 г. / Под общ. ред. В. В. Петрова. М.: Аквилон, 2017. С. 315-317.
- Мефодий (Зинковский), иером. Православное богословие личности: истоки, современность, перспективы развития. Дисс. … докт. богосл. М.; СПб., 2014.
- Daley B. "A Richer Union": Leontius of Byzantium and the Relationship of Human and Divine in Christ // Studia Patristica. 1993. № 24. P. 239-265.
- dell'Osso C. Still on the concept of Enhypostaton // Augustinianum. 2003. № 43. P. 63-80.
- Dörrie H. Ὑπόστασις. Wort- und Bedeutungsgeschichte // Nachrichten der Akad. der Wiss. in Göttingen. Phil.-hist. Kl., Jg. 1955. 3. S. 13-69.
- Essen G. Die Freiheit Jesu. Der neuchalkedonische Enhypostasiebegriff im Horizont neuzeitlicher Subjekt- und Personphilosophie. Regensburg, 2001.
- Ferrara D. M. Hypostatized in the Logos: Leontius of Byzantium, Leontius of Jerusalem and the unfinished business of the council of Chalcedon // Louvain Studies. 1997. № 22. P. 311-327.
- Gleede B. The Development of the Term ἐνυπόστατος from Origen to John of Damascus. Leiden; Boston, 2012.
- Grant R. M. The Fragments of the Greek Apologists and Irenaeus // Biblical and Patristic Studies in Memory of R. P. Casey. Freiburg, 1963. P. 213-214.
- Hanson R. P. The Search for the Christian Doctrine of God. The Arian Controversy 318-381. Edinburgh, 1988.
- Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 2001.
- Lang U. M. Anhypostatos-Enhypostatos: Church Fathers, Protestant Orthodoxy and Karl Barth // JThS. 1998. № 49. P. 630-657.
- Mühl M. Der λόγος ἐνδιάθετος und προφορικός von der älteren Stoa bis für Synode von Sirmium 351 //Archiv für Begriffsgeschichte. 1962. № 7. P. 7-56.
- Zachhuber J. Basil and the Three-Hypostases Tradition // ZAC. 2001. № 5. P. 65-85.
- Zhyrkova A. Jh. Damascene's Conception of Individual: Hypostasis versus Person // Studia Patristica. Peeters. 2012. Vol. LII. P. 375-387.
- Zhyrkova A. Leontius of Byzantium and the Concept of Enhypostaton // Forum Philosophicum. 2017. 22. Vol. 2. P. 193-218.