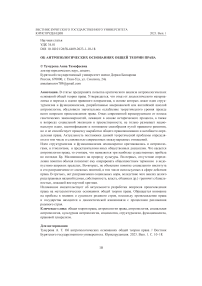Об антропологических основаниях общей теории права
Автор: Тумурова Анна Тимофеевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Актуальные вопросы философии права и антропологии права
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка критического анализа антропологических оснований общей теории права. Утверждается, что отказ от диалектического материализма и переход к идеям правового плюрализма, в основе которых лежат идеи структурализма и функционализма, разработанные американской или английской школой антропологии, обусловили значительное ослабление теоретического уровня прежде всего вопросов происхождения права. Отказ современной юриспруденции от поиска генетических закономерностей, лежащих в основе исторического процесса, а также в вопросах социальной эволюции и преемственности, не только размывает национальную идею, идентификацию и понимание своеобразия путей правового развития, но и не способствует процессу выработки общего правопонимания и всеобщего определения права. Актуальность постановки данной теоретической проблемы определяется в том числе и сложностью современных международных отношений. Идеи структурализма и функционализма неоднократно критиковались и антропологами, и этнологами, и представителями иных общественных дисциплин. Что касается антропологии права, то считаем, что выявляется три наиболее существенных пробела во взглядах Бр. Малиновского на природу культуры. Во-первых, отсутствие определения понятия обычая позволяет ему оперировать общеизвестным термином в недопустимо широких пределах. Во-вторых, не объяснено понятие социального института и его разграничение от смежных понятий, в том числе используемых в сфере действия права. В-третьих, нет разграничения социальных норм, вследствие чего анализ целого ряда правовых явлений (семья, собственность, власть, община и др.) граничит с банальностью, лежащей вне научной критики. Изложенное свидетельствует об актуальности разработки вопросов происхождения права на методологических основаниях общей теории права. Обращается внимание на пробелы в знаниях о сущности родового строя, поскольку происхождение права и государства находится в диалектической взаимосвязи с процессами разложения родового строя.
Общая теория права, антропология права, антропология, социальная антропология, культурная антропология, социология, структурализм, функционализм, правовой плюрализм
Короткий адрес: https://sciup.org/148326152
IDR: 148326152 | УДК: 34.01 | DOI: 10.18101/2658-4409-2023-1-10-18
Текст научной статьи Об антропологических основаниях общей теории права
Тумурова А. Т. Об антропологических основаниях общей теории права // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2023. Вып. 1. С. 10–18.
Особое место в проблеме познания общего и особенного в правовом развитии народов Центральной Азии занимает общая теория права, что в свою очередь может повлечь изменения ее методологических оснований. Для постановки указанной проблемы имеются серьезные основания, лежащие в плоскости антропологизации юридических знаний.
В вопросе о месте теории государства и права в системе юридических наук утверждалось, что она выполняет методологическую роль. Можно сослаться на мнение Д. А. Керимова, который говорил, что в комплексе юридических наук методологические функции в основном осуществляет общая теория права [5]. В. С. Нерсесянц подчеркивал, что функция теории права состоит в выработке понятия права как основополагающей в системе юридических наук [7]. Однако В. М. Сырых в этом вопросе справедливо отмечал, что плюрализм в понимании и оценке российских правоведов имеет больше негативных, чем позитивных, сторон [9].
Вместе с тем в течение последних тридцати лет методологическая функция общей теории права в российской системе юридических наук была сведена к нулю. Теория права выполняла весьма скромную роль учебной дисциплины, дающей общие представления о праве и государстве. Шло последовательное и принципиальное сведение теории права, по сути, к энциклопедии права, то есть общих представлений о праве и ее функциях в обществе. Также сошлемся в этом месте на мнение В. М. Сырых, который верно подметил, что методологическая роль общей теории права свелась к формальному цитированию классиков, теоретиков [9].
По какой причине теория права перестала выполнять эту роль и каково ее истинное назначение в системе юридических наук, думается, вопрос весьма сложный. Вместе с тем неоспоримо, что методологическую роль в системе юридических наук выполняла наука конституционного права. Причем современный российский конституционализм разработан и является воплощением философской системы, базирующейся на идеях К. Кельзена и пронизанной идеями юридического позитивизма, разработанного Дж. Остином.
При этом ни для кого не секрет, что позитивизм оказывается неспособным отличить подлинное право от возведенного в закон произвола, ставит права человека в прямую зависимость от правотворческой деятельности государства и его органов [10, с. 120].
Для подобного смещения академического ракурса имеются предпосылки. На наш взгляд, они базируются на идее правового плюрализма, активно поддерживаемой Н. Руланом [8] и далее К. фон Бенда-Бекманн [2].
Последствия подмены теории права конституционализмом неоднозначны. Тут недостаточно сказать, что философия, определяющая право и государство из понимания добра и справедливости, субъективна, ей противостоит только наука — система объективного знания, проверяемого практикой. Современный конституционализм основан на либеральных ценностях, критика которых перешла уже в фазу военного противостояния. Следовательно, задача выработки всеобщего определения права продолжает оставаться актуальной задачей юридической науки. И современная геополитическая направленность требует выработки научно обоснованных определений общности взглядов на природу и характер права как основного, универсального регулятора общественных отношений.
Остановимся на трех, наиболее важных, с нашей точки зрения, аспектах, способствующих процессу развития современных научных направлений.
Сложной проблемой является вопрос о предмете и объекте научного познания социальных явлений и процессов. В. М. Сырых так обосновывает вопрос о начале научного познания: «Диалектико-материалистическая теория познания связывает его начало с внешним, объективно существующим вне и помимо познающего субъекта миром....Проблема начала познания права включает в себя два аспекта: филогенетический (историческое развитие юридической науки как системы знаний о закономерностях функционирования и развития правовых явлений), онтологический (развитие правовых знаний отдельной личности). Отдельный познающий человек имеет перед собой два компонента: объективную реальность и систему теоретических и эмпирических знаний, отражающих ее. Объективная реальность выступает началом теоретического познания и противостоит познанным закономерностям как своей бледной, неполной, а иногда искаженной копии, отраженной в форме понятий, категорий и иных абстракций, понимается как объект науки. Именно из потребности строгого отделения познанных закономерностей от самой объективной реальности, где эти закономерности действуют, а также последовательного применения материалистически истолкованной проблемы начала в научном познании в гносеологии формулируется принцип, требующий последовательного и строгого отличения объекта науки от его предмета» [10, c. 102].
Предметом теории права являются общие закономерности права, в числе которых теоретики называют функциональные структурные связи, ответственные за взаимодействие явлений между собой в статическом состоянии. Однако общество в целом и все его составные части находятся в состоянии постоянного изменения и развития. Эти процессы носят объективный характер и осуществляются в соответствии с так называемыми историческими, генетическими закономерностями. Причем, прежде чем говорить о закономерной исторической связи, нужно иметь четкое представление о том, какая связь является генетической и каким образом она проявляется в реальных, конкретно-исторических процессах» [9]. В. М. Сырых считает, что генезис правовых явлений и их генетическая связь «...вне поля зрения правоведов...». В какой мере этот пробел способен оказать системное влияние на ход и развитие такой важной науки, как теория права?
Российская наука отказалась не столько, разумеется, от самих исследований в этой сфере, сколько от использования генетических закономерностей в анализе правовых явлений, что, на наш взгляд, и разрушило необходимые теоретические взаимосвязи в системе юридических и других обществоведческих наук, порождая эклектику и саму хаотичность.
Отказ от исследований генезиса права и государства берет свое начало с работы А. Б. Венгерова, им же введена традиция изложения множества имеющихся в юриспруденции и общей социологии теорий происхождения государства и следующую за этим выводом множественность происхождения позитивного права. Далее за этим последовала разработка теории правонимания, в которой в той или иной мере прослеживается вывод о правовом плюрализме, невозможности выработки всеобщего определения права.
Венгеров не ставил своей целью предложить альтернативу классовой теории происхождения права и государства, а изложением множества теорий происхождения государства он только преследовал цель критики существовавшего в те времена в науке представления о генетических закономерностях в теории права [3].
Обусловливает ли отказ российской науки теории права от изучения вопросов генезиса права необходимость исследовать эти вопросы? Вопрос, конечно же, риторический. Позиция российской науки в этом вопросе весьма уязвима, поскольку решение делегировано «узким» и конкретно неназванным специалистам.
Процесс выделения вопросов происхождения права и государства в самостоятельную научную дисциплину идет давно. Об этом свидетельствуют антропологи-зация общественных наук, зарождение исторической антропологии, социальной антропологии, культурной антропологии и др. В этом перечне антропология права самая последняя по времени происхождения. Но, несмотря на их кажущуюся многочисленность, все сводится к культурной антропологии, восходящей к структурализму и его последующей интерпретации в виде функционализма.
Функционализм как одно из течений западноевропейской антропологической школы разрабатывался Фр. Боасом и Бр. Малиновским, именуется американской или британской школой антропологии. Настоятельная необходимость научной критики и пересмотра ее положений заключается в следующем.
Бр. Малиновский, ратовавший за социологические методы научного исследования, заключил, что нельзя исследовать прошлое на имеющихся в настоящее время знаниях и артефактах. Впервые с этой идеей он выступил в 1921 г., в разгар антикоммунизма. Малиновский противопоставляет функционализм как подлинную науку «этнологии и истории», где, как он пишет, «охота «за подлинной первопричиной» проходит в совершенно ничем не определенных и никем не картографированных сферах гипотетического, где отвлеченная мысль свободна блуждать, не обремененная фактами» [6].
Каждая такая интерпретация, по Малиновскому, будет выступать как субъективность, которой необходимо противопоставить социологические методы исследования реальности. Необходимость исследования различных социальных явлений и изучение их взаимосвязи путем прямого наблюдения и интерпретации увиденного, сути познанного, объявлялись единственным путем объективизации общественных наук. Следовательно, положение, когда теория государства и права отказывается от изучения генезиса социальных явлений, сопряженных с восхождением от абстрактного к конкретному, имеет реальное время зарождения и систему объяснений такому явлению: переход всей западной науки к социологии, претендующей на постижение природы социального исключительно социологическими методами познания.
К слову сказать, что махина социологического познания, развернутая в сторону постижения реально существующих общественных отношений, установления их механизма, взаимосвязи и взаимообусловленности, на протяжении всей второй половины двадцатого века демонстрирует свою страшную силу: она помогает в отсутствие ясного понимания и оторванности от исторических корней использовать эти знания эффективно исключительно в сфере их деструктивного применения. Все эти избирательные технологии, оранжевые революции, разрушение семьи как механизм деструктуризации общества, дестабилизация общественных отношений — это яркие примеры «развития» современных обществоведческих наук.
Разумеется, констатацией антикоммунистической направленности идей структурализма, функционализма и культурологии, родившейся на этой основе, не может быть объяснено многообразие противоречий, которые подтачивают теорию права изнутри, ломают ее внутреннее единство и логику развития, все то, что случилось со всеми общественными науками в последние десятилетия.
Для объяснения проблемы, общей для всех общественных наук, включая теорию права, следует обратиться к идеям Фр. Боаса и Бр. Малиновского, в частности к важнейшей теоретической работе Бр. Малиновского «Теория культуры», вышедшей в 1943 г.
Если не касаться всех вопросов, которые возникают при прочтении его теоретического труда в аспекте юриспруденции, то самая серьезная критика теории культуры лежит в том, что Малиновский обходит вопрос, что такое обычай, который он видит важнейшим стержневым явлением в формировании социального института, учреждения, важнейшего компонента в формировании культуры как совокупности социальных институтов.
Думается, что понятие обычая в его интерпретации весьма схоже с тем, что в науке теории государства и права определяется как понятие социальной нормы. И отсюда следующий момент: без решения вопроса, что есть обычай в юриспруденции, собственных ответов антропология и культурология не имеют. Но отвечает ли на этот вопрос сама юриспруденция, в частности общая теория права?
Если обратиться к общей теории права Луи Бержеля, Герберта Харта, мы все также видим общую с современной российской теорией права и государства проблему отсутствия разграничения социальных регуляторов [1; 11].
Что есть право, чем оно отличается от морали, от обычая, религиозных норм? Все эти вопросы в российской юриспруденции фактически сняты тем, что, следуя общей антропологии, утверждаем, что любые социальные нормы в обществе являются правом (law). На этом построено разграничение правовых семей; в целом считается возможным при помощи закона придать правовой и всеобщий характер морали (например, конфуцианской), религиозным нормам (исламским) традициям и, наконец, корпоративным нормам. Но такая позиция вынуждает исследователя использовать понятия «примитивное общество», «примитивное регулирование», а еще появились такие термины как «глубинное государство» и пр. Отсюда задача цивилизованного общества и государства — защищать права человека, декларировать права меньшинств, определять их квоты и выступать единственной гарантирующей силой. На деле провозглашается право сильного государства навязывать иным субъектам свои правила, оправдывать произвол и насилие во имя процветания «цивилизации». Более того, инаковость объявляется «угрозой существованию человечества, которую несут этносы, не приспособившиеся к новым, острым технологиям, прогрессу в сфере наук и другим полезным и опасным продвижениям человечества», пишет А. Б. Венгеров [3].
Однако такое правопонимание уводит от познания закономерностей исторического развития. Любые преобразования в отсутствие общечеловеческих ориентиров, отражающих генезис человека как социального существа во всем его культурном многообразии, оказываются сиюминутно выгодными субъекту преобразования.
Проблема отсутствия разграничения социальных регуляторов — это большая серьезная проблема. Ведь речь идет не просто об отсутствии внутренних границ между социальными регуляторами, нерешенность вопроса об их сущности, функциях, качестве и особенностях создаваемых при помощи таких норм социальных институтов. Именно в силу этого поставленная Малиновским в первой половине ХХ в. задача анализа функций социальных институтов все также далека от решения. Разные социальные регуляторы взаимодействуют между собой. Характер такого взаимодействия нельзя уловить, если относиться к ней не дифференцируя по их социальному предназначению. Эти социальные регуляторы имеют иерархический характер. В разных сообществах эта иерархия разная и она обусловлена объективными причинами, которые нельзя игнорировать.
Еще раз подчеркнем, что культура — это то, что образуется при слаженном или деструктивном функционировании социальных норм, результат совместного действия социальных норм, но при этом социальные нормы все высокоспециализированные сущности.
Трудности для теоретического анализа возникают еще и тогда, когда для понимания культуры возникает необходимость учитывать ее преемственность. Никогда культурные изменения в своем эволюционном развитии не порывают своей преемственности. Другими словами, уходящая культура тысячами нитей связана с приходящей культурой. В этом смысле она будет силой, воздействующей на нарождающиеся отношения, корректировать или изменять в иной форме все новеллы в социальной структуре. Эта связь непрерывна, раз возникнув, никогда не исчезнет, только видоизменится под влиянием различных сил. Глубокое заблуждение думать, что можно преемственность разорвать окончательно и на ее обломках построить новый мир. Как мы видим из недавних исторических событий, преемственность прослеживается в основном и даже вопреки всем обстоятельствам.
Таким образом, европейские антропологические школы структурализма и функционализма возникли как реакция неприятия идейного наполнения современного им социологического направления в обществоведческих науках, главным образом марксизма. Картина мультикультурного мира, созданная Малиновским, сосредоточивает внимание на системе природных и производных потребностей человека и находит отражение в важнейших идеях, до сих пор питающих западную юриспруденцию — правовой плюрализм и права человека.
Имелись ли альтернативы марксизму в развитии социологии великого XIX в.?
С позиций ХХI в. совершенно очевидной видится необходимость углубления знаний в вопросах происхождения человека и взаимосвязанном с ними генезисе права и государства. Другими словами, «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса является лишь первым успешным опытом в попытке реконструкции очень сложных социальных процессов, обусловивших происхождение наиболее значимого для социального развития института государства.
Грандиозность этого первого на пути научного постижения происхождения человека опыта в действительности потрясла Европу, уверила в возможности не только в самой реконструкции, но и рационального воздействия на саму социальную эволюцию, породив множество этатистских учений. Все это привело к фактическому секвестированию правоведения. Здесь речь идет о сведении понятия права не только к закону, но и к усугублению общих тенденций, приведших к окончательному идейному разрыву правоведения с этикой, религией и другими регуляторами общественных отношений. Нормативизм в этом обличии делает более плоской категорию «общество», а «общественное развитие» — однолинейной.
Протест против такого понимания общества и общественного развития естественным образом складывается институционально в той области социальной антропологии, которая изучает мир за рамками государства и государственного закона. Социальная теория, постулирующая разнообразие линий социального развития, а также богатство альтернативного европейскому мира, создавала свой терминологический багаж, старательно избегая старого словаря. Это одна из причин того, чтобы призвать научное сообщество к дальнейшему взаимодействию, но на основе терминологического единства. Притча о вавилонской башне как никогда актуальна для человечества, переживающего последний акт глобали-зиции в ХХI в.
Пути преодоления кризиса в социальных науках видятся в углублении имеющихся знаний по вопросу происхождения права. Для этого необходимо констатировать, что эмпирическая база социальных наук в XIX в. была недостаточной для теоретического осмысления сложных вопросов происхождения человека как социального существа и вопросов права.
Главным недостающим звеном в теории социального генезиса являются современные научные представления о сущности родового строя. Марксистская теория происхождения государства и права была написана по материалам середины XIX в. Прошло уже более 150 лет. За это время содержание эмпирических данных для антропологических выводов значительно обогащено. Но вследствие вышеназванных научных дискурсов оно остается невостребованным теорией права.
Так, необходимо обратить внимание на тот факт, что марксистская теория обошла вопрос о генезисе родового строя. А без ясного понимания сути родового строя нельзя понять общие причины и формы его разложения. Согласно диалектике разложение родового строя и возникновение государства и права единый процесс. Центральную Азию населяют многие народы, значительное своеобразие их образа жизни и менталитета определяется их родовым прошлым. Поэтому изучение правовой культуры народов Центральной Азии способно в значительной мере восполнить пробелы в понимании генезиса культуры и цивилизаций. Народы Центральной Азии хорошо знакомы с феноменом обычного права, правовую природу которого с позиций современного правопонимания трудно отрицать, как и эпистемологическую ценность их правовых памятников.
Относительность разделения мира на Восток и Запад, окончательное развенчание мифа о значительных цивилизационных различиях Востока и Запада принадлежат великому евразийцу Л. И. Гумилеву[4]. В его работе «Этногенез и биосфера Земли» есть методологическая основа для формирования нового направления в развитии антропологии права. Многое в этом направлении уже достигнуто. Самый первоначальный опыт познания этих процессов свидетельствует, что право возникает раньше государства, определяет параметры этого института. Государство по своей природе явление правовое. Этим определяются его функции, форма и иные параметры. Право имеет собственное содержание, основанное на принципах равенства, свободы и справедливости. Право в системе социального регулирования не дублирует, не подменяет собой обычаи, мораль, религиозные нормы. Деление права на публичное и частное носит объективный характер и определяет сферу действия закона и обычного права. В свою очередь право устанавливает соотношение государства и гражданского общества. Ну и, наконец, право возникает там и тогда, когда для этого есть материальные и иные предпосылки.
Теоретическое осмысление сложных процессов и закономерностей возникновения права и государства представляет собой содержание самостоятельной части теории права и государства — антропологии права.
Список литературы Об антропологических основаниях общей теории права
- Бержель Ж.-Л. Общая теория права. Москва: Nota Bene, 2000. Текст: непосредственный.
- Бенда-Бекманн Ф. фон. Правовой плюрализм в международном контексте // Обычай и закон. Исследования по юридической антропологии. Москва: Стратегия, 2002. С. 96–109. Текст: непосредственный.
- Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник. Изд. 2. Москва: Омега-Л, 2005. С. 30. Текст: непосредственный.
- Гумилев Л. И. Этногенез и биосфера Земли. Москва, 2007. Текст: непосредственный.
- Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. Москва: СГА, 2003. С. 18–26. Текст: непосредственный.
- Малиновский Бр. Научная теория культуры. Москва, 2005. С. 114. Текст: непосредственный.
- Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общей редакцией академика РАН В. С. Нерсесянца. Москва: Норма, 2002. С. 1–10. Текст: непосредственный.
- Рулан Н. Юридическая антропология: учебник для вузов / пер. с фр. Москва: Норма, 1999. Текст: непосредственный.
- Сырых В. М. Логические основания общей теории права: в 2-х т. Т. 1. Элементный состав. Москва: Юстицинформ, 2000. С. 77. Текст: непосредственный.
- Сырых В. М. Материалистическая теория права: избранное. Москва: Лань, 2011. С. 120. Текст: непосредственный.
- Харт Г. Л. А. Понятие права: пер. с англ. / под общей редакцией Е. В. Афонасина и С. В. Моисеева. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. Текст: непосредственный.