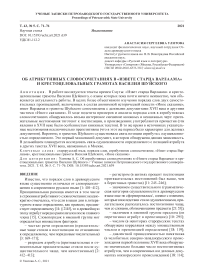Об атрибутивных словосочетаниях в "Извете старца Варлаама" и крестоцеловальных грамотах Василия Шуйского
Автор: Улитова А.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 5 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе исследуются тексты времен Смуты: «Извет старца Варлаама» и крестоцеловальные грамоты Василия Шуйского, о языке которых пока почти ничего неизвестно, чем объясняется актуальность работы. В целях более объективного изучения порядка слов двух самостоятельных произведений, включенных в состав анонимной исторической повести «Иное сказание», извет Варлаама и грамоты Шуйского сопоставлены с деловыми документами XVII века и другими частями «Иного сказания». В ходе подсчета примеров и анализа порядка слов в атрибутивных словосочетаниях обнаружилось весьма интересное смешение книжных и некнижных черт: притяжательные местоимения тяготеют к постпозиции, в произведениях употребляются причастия (эти явления в XVII веке были особенностью книжных текстов). В то же время в источниках указательные местоимения исключительно препозитивны (что в этот же период было характерно для деловых документов). Вероятно, в грамотах Шуйского существовала связь позиции атрибута с одушевленностью определяемого. Это первый московский документ, в котором обнаружена данная зависимость. В дельнейшем планируется исследовать связь одушевленности определяемого с позицией атрибута в других текстах XVII века, написанных в Москве.
Старорусский язык, порядок слов, атрибутивное словосочетание, «Извет старца Варлаама», крестоцеловальные грамоты Василия Шуйского, «Иное сказание»
Короткий адрес: https://sciup.org/147234617
IDR: 147234617 | УДК: 81-112.2 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.639
Текст научной статьи Об атрибутивных словосочетаниях в "Извете старца Варлаама" и крестоцеловальных грамотах Василия Шуйского
Известно, что порядок слов в древнерусском языке существенно отличался от словорасполо-жения в современном русском языке [1: 410–412]. Принципиальная разница имеется в том числе в строении атрибутивного словосочетания: неоднократно отмечалось, что если в наши дни в литературном языке определение, как правило, предшествует определяемому [14: § 2145], то в древнейшую эпоху атрибут нередко располагался после главного члена [15]. Словопорядок в именной группе мог определяться множеством факторов:
– частью речи определения (прилагательные чаще стояли в постпозиции по отношению к определяемому, чем порядковые числительные) [3: 169–171];
– разрядом атрибута (притяжательные и относительные прилагательные стояли после существительного чаще, чем качественные) [2: 412–413];
– регистром (в житиях процент постпозиции притяжательных местоимений был выше, чем в берестяных грамотах) [11: 245–246];
– значением существительного (грамматическая категория одушевленности в древнерусском языке еще не сформировалась1, однако с именами, которые впоследствии стали одушевленными, прилагательное располагалось постпозитивно чаще, чем со словами, обозначающими предметы [21: 55]);
– наличием в именной группе предлога (он перетягивал атрибут в препозицию) [10: 295];
– числом (в некоторых старорусских текстах обнаружена корреляция между множественным числом и препозицией определения) [18: 119];
– диалектной принадлежностью памятника (в челобитных северно-западнорусского происхождения первой половины XVII века обнаружено значительно большее число постпозитивных атрибутов, чем в современных им деловых документах южнорусского происхождения) [18: 114];
– контекстом, в котором находилось атрибутивное словосочетание (если именная группа входила в состав сравнения, то прилагательное чаще всего было постпозитивным) [19: 58] и т. д.
В XVI–XVII веках произошли существенные изменения в нормах словорасположения внутри именной группы: вероятно, именно в эту эпоху постпозиция определения стала выполнять стилистическую функцию. Это произошло в связи с тем, что заметно вырос процент препозитивных определений, и на фоне препозиции постпозиция получила высокую стилистическую окраску [8: 218], [17: 14]. Другим существенным изменением стало сокращение числа кратких форм прилагательных в данную эпоху [4: 100–104]. Текстам старорусской эпохи посвящено меньшее количество работ, чем древнерусскому синтаксису [5], [9], чем и объясняется цель данной работы – изучить порядок слов в малоисследованных произведениях первой половины XVII века. Для анализа взяты так называемый «Извет старца Варлаама» и крестоцеловальные грамоты Василия Шуйского. Эти произведения входят в состав «Иного сказания» – анонимной исторической повести, названной так по аналогии со «Сказанием» Авраа-мия Палицына [13: 330], однако по ряду языковых особенностей извет и грамоты резко отличаются от основного текста и должны быть рассмотрены отдельно (более подробно история создания повести описана в [16: 237–240]). Так, язык «Извета старца Варлаама» и крестоцеловальных грамот В. Шуйского интересен тем, что строение атрибутивного словосочетания в них во многом отличается от современных им деловых и книжных текстов (в том числе от других частей «Иного сказания»), описанных в [18: 116]. В то же время эти два текста обнаруживают ряд общих черт: есть только формы глаголов на -л (кроме цитат, отражающих речь Лжедмитрия I, где есть и другие формы прошедшего времени: злокозненнаго его помысла не восхотѣ исполнити с. 27), лексические церковнославянизмы немногочисленны (например, это послелог ради : грѣхъ ради нашихъ с. 24) и т. д. Существует обширная литература по историческим повестям XVII века и публицистике [12] и др., но анализу языка исследуемых произведений уделено мало внимания, и этот пробел необходимо заполнить. Примеры, представленные в данной работе, приводятся по изданию2.
-
I. АТРИБУТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
В КРЕСТОЦЕЛОВАЛЬНЫХ ГРАМОТАХ
В. ШУЙСКОГО
В царских грамотах обнаружено 358 одиночных препозитивных определений и 99 постпозитивных (78 % / 22 %). Из подсчетов исключены атрибутивные словосочетания с приложениями, так как это особый род атрибутивных словосочетаний [20: 28].
-
I.I. Имена прилагательные
Притяжательные прилагательные 8 раз стоят в постпозиции и 9 – в препозиции, однако большинство примеров с порядком слов «определение – определяемое» включает в себя слово «божий» (7 случаев из 8), поэтому именно оно, а не все притяжательные прилагательные, тяготело к постпозиции. Заметим, что позиция притяжательных прилагательных также зависела от падежа и предлога: постпозитивные прилагательные за исключением одного примера встречаются в беспредложных словосочетаниях, стоящих в именительном и винительном падежах, что было характерно и для некоторых древнерусских текстов3.
Препозиция:
Зъ Божiею помочiю (хотимъ держати) с. 69, Божiею милостiю с. 71, царевымъ сыномъ с. 73, при па-пиныхъ посланникѣхъ с. 75, Христовыхъ овецъ с. 81, на царевичевыхъ же мощѣхъ с. 84, на царевичевыхъ мо-щахъ с. 84, папинъ легатъ с. 93, къ папину легату с. 94.
Постпозиция:
Церкви Божiи (осквернилъ) с. 67, 74, за волею Божiею с. 69, Церкви Божiя (стояли) с. 70, (и) легатъ папинъ (писалъ) с. 94, Церкви Божiя (и святыя иконы обругалъ) с. 74, милость Божiя с. 86, церкви Божiи (лѣпоту свою приняли) с. 87 .
Таким образом, притяжательные прилагательные в большинстве случаев находятся в препозиции, что было характерно для деловых текстов XVII века. Именно в них данные определения были препозитивными, в то время как постпозитивное притяжательное прилагательное являлось особенностью текстов книжных (например, в основной части «Иного сказания» процент постпозиции притяжательных прилагательных – 66 %)4.
Относительные и качественные прилагательные также в большинстве случаев препозитивны. Среди небольшого числа примеров с постпозитивным прилагательным несколько случаев приходится на конец фразы, что, по словам И. И. Ков-туновой, придает фразе интонацию плавного завершения [6: 55]: Богъ милосердый (не хотя ис-полнити) с. 67, 87, (яко) агiя незлобивое (заклася) с. 82. Таким образом, возможно, здесь имеется стилистическое использование постпозиции атрибута, и это один из ранних примеров данного явления.
-
I.II. Атрибутивные местоимения
В грамотах Шуйского встретилось 48 примеров с постпозицией местоимения (его – 10 раз, нашь – 11, ихъ – 5, свой – 15, мои – 4, ее – 3). В препозиции стоят 33 местоимения (свой – 13 примеров, его – 10, вашь – 1, нашь – 3, ихъ – 4, мои – 1).
Препозиция: по своимъ дѣломъ с. 67, его родству с. 68, (смотря) по вашей службѣ с. 69, наши грамоты с. 71, въ его хоромѣхъ с. 75 и т. д.
Постпозиция: душу еѣ с. 86, у братiи ихъ (не отъи-мати) с. 72, (не осудя) зъ боляры своими с. 72, прародители мои с. 71 и т. д.
Нужно отметить, что в крестоцеловальных грамотах Василия Шуйского существовала зависимость положения притяжательного местоимения нашь от одушевленности существительного: с одушевленным определяемым оно чаще стоит в постпозиции, чем с неодушевленным: наши грамоты с. 71, по нашему указу с. 75 (всего 3 примера), но боляромъ нашимъ с. 68, прародителей нашихъ с. 69 (всего 16 примеров) и т. д.
Похожая зависимость существовала в берестяных грамотах, но не в книжных текстах [10], [22: 553].
Указательные местоимения почти в 100 % случаев препозитивны (в XVII веке их постпозиция встречалась преимущественно в книжных текстах [18: 113]):
гзвычей (у меня) тотъ (уложился) с. 78, весть та (приидетъ) с. 92 / въ той вере с. 67, того Гришки с. 68, отъ таковаго злодейства (избыли) с. 68, по ся места с. 94, семъ деломъ с. 94, надъ тпмъ де воромъ с. 76, до сего дни с. 85 - и т. д.
-
I.III. Причастия
В грамотах Шуйского встретилось заметное количество причастий. При этом в деловых документах XVII в. они практически отсутствуют5:
Препозиция: ту утверженную запись с. 71, у тае-ные его думы с. 77, съ утверженые грамоты с. 87 и т. д.
Постпозиция: ( выезжаютъ) роты вооружены с. 78, (взято) листъ утверженной с. 75.
Необходимо упомянуть, что в грамотах Шуйского многие причастия входят в состав устойчивых словосочетаний, которые часто встречаются в книжных текстах, но есть 7 примеров, в которых влияние иных книжных текстов не прослеживается. Это уже существенно больше, чем в деловых текстах.
-
I.IV . Повтор предлога
Кроме особенностей построения атрибутивных словосочетаний примечательным фактом является регулярно встречающийся в исследуемых текстах повтор предлогов при определении, который был отличительной чертой синтаксиса древнерусского языка ( съ своею братьею съ князи ) [15: 90–92]. Это явление было взаимосвязано с порядком слов в атрибутивном словосочетании: как правило, предлог дублировался, если определение стояло после определяемого [1: 30]. При этом данная особенность практически отсутствовала в текстах высокого регистра, но была широко распространена в текстах некнижных [7: 80].
Шуйск.: на томъ на всемъ (ему присегалъ) с. 68, (крестъ) на томъ на всемъ (целовалъ) с. 76, въ збруе во всей (и со всемъ оруж1емъ) с. 77, о томъ о всемъ с. 92.
Отметим, что при этом в других частях «Иного сказания», которые были дополнительно проанализированы автором в ходе работы, дублирова- ние предлога, вероятнее всего, намеренно удалялось из произведения, так как подобные примеры отсутствуют, но при этом повтор предлога встречается в уточнительных конструкциях: въ 1 день, въ день неделный с. 83, предъ новымъ мучени-комъ, предъ сыномъ своимъ Дмитр1емъ с. 85.
-
II. АТРИБУТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
В «ИЗВЕТЕ» СТАРЦА ВАРЛААМА
В «Извете», который намного меньше по объему, чем грамоты Шуйского, атрибут стоит перед определяемым в 74 примерах, а после него – в 29 примерах (72 % / 28 %); напомним, что в правительственных грамотах обнаружено 358 одиночных препозитивных определений и 99 постпозитивных (78 % / 22 %). Таким образом, процент постпозитивных определений в «Извете» немного больше, чем в грамотах.
-
II.I. Имена прилагательные
Притяжательные прилагательные тяготеют к препозиции (10 примеров):
(поидемъ) до Воскресешя Господня с. 20, (поидемъ) до Гроба Господня с. 20, судомъ Божшмъ (отца нашего на Ро-сийском престоле не стало) с. 23 (всего 3 примера постпозиции) / Божшмъ позволенгемъ с. 23, Божшмъ попущенгемъ с. 24, (было итти) до Господня Гроба с. 21 и т. д.
Однако в отличие от крестоцеловальных грамот в «Извете» прилагательное «божий» не тяготеет к постпозиции, а располагается свободно: Божшмъ позволешемъ с. 23, бож1ею помощ1ю с. 23 / судомъ Божiимъ с. 23.
Проанализировать связь позиции атрибута с наличием в именной группе предлога невозможно из-за недостаточного количества примеров.
Относительные и качественные прилагательные также тяготеют к препозиции:
-
1) Относительные прилагательные (63 % пре-поз. / 37 % постпоз. – 32 препозитивных прилагательных против 15 постпозитивных):
въ гконномъ ряду (2р.) с. 20, гноческое платге с. 21, въ Литовскую землю с. 20, Люторской грамоте с. 21 / платге иноческое (скинути) с. 21, старцы многие (души свои спасали) с. 20;
-
2) Качественные прилагательные (10 препозитивных определений и 3 постпозитивных):
злымъ умышленгемъ с. 25, милостивый королю (зв.) с. 23 / въ славу (де вшелъ) въ великую с. 19, (пришелъ) чернецъ молодъ с. 19.
В «Извете» обнаружена интересная особенность: порядок слов и язык в целом резко меняются при передаче слов Лжедмитрия I, произносящего торжественную речь перед польскими панами (случаи употребления сложной системы прошедших времен и большая доля постпозитивных атрибутов приходятся на цитаты):
коль былъ великъ и грозенъ, во многихъ ордахъ бысть славенъ (Иван Грозный. - А. У) с. 23; судомъ Божиимъ отца нашего на Росгйскомъ государства не стало с. 23. Ср. это с «собственными словами» старца: въ коей (хто) впрп с. 21, вожа (добыли) Твашка Семенова с. 20.
-
II.II. Атрибутивные местоимения
В «Извете» наблюдается небольшой перевес постпозиции над препозицией (7 и 5 примеров соответственно):
Препозиция: (видя) мое досужество с. 19, во свое богомолье с. 21, твой холопъ (...истеряетъ) с. 23, твоимъ царствомъ с. 23, (роспросити) его дочери с. 25;
Постпозиция: души свои (спасали) с. 20, въ судбахъ своихъ (сохранилъ) с. 23, возрасту нашего (...не стало) с. 23, изменники наши (послали) с. 23, отца нашего с. 23, брата твоего (в. п) с. 23, грпхъ ради нашихъ с. 24.
Указательные местоимения тяготеют к препозиции:
въ той вп>рп> (пребываетъ) с. 22, тотъ Гришка с. 24, тому Гришке с. 22, того Гришку (съ собою взялъ) с. 22, про тог о Гришку с. 24, (поидемъ) въ тотъ монастырь с. 19, въ тп поры с. 23, тотъ рострига с. 24, тотъ ро-стрига с. 24, того Якова Пыхачева с. 24.
-
II.III. Причастия
В «Извете» старца Варлаама встретилось существенно меньше причастий, чем в грамотах Шуйского: невидимою силою с. 23, (добыли...) отставленого старца с. 20, врага Божгего проклятого отъ всего вселенскаго собора с. 24.
В процентном соотношении 3 примера – это 3 % от общего числа атрибутивных словосочетаний; в грамотах Шуйского этот показатель равен 5 %.
-
II.IV . Повтор предлога
Дублирующийся предлог встретился в обоих исследованных текстах, однако отметим, что состав таких предлогов в «Извете» и грамотах разный:
Шуйск.: на томъ на всемъ (ему присталъ) с. 68, (крестъ) на томъ на всемъ (целовалъ) с. 76, въ збруе во всей (и со вс^мъ оруж1емъ) с. 77, о томъ о всемъ с. 92, съ нимъ съ Сандомирскимъ (говорилъ) с. 76 - повторяются предлоги на , въ , о , съ .
Извет: къ пану къ Госкому с. 21, по паномъ по рад-нымъ (его возилъ) с. 22, въ славу (де вшелъ) въ великую с. 19, про то про все с. 25 - повторяются предлоги къ , по , въ , про .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в «Извете старца Варлаама» и грамотах В. Шуйского наблюдается интересное смешение книжных и некнижных черт. Книжные черты: большой процент постпозитивных притяжательных прилагательных и местоимений; использование позиции определения в создании стилистического приема. Некнижные черты: повтор предлога, препозитивные указательные местоимения.
Само соотношение препозитивных и постпозитивных определений для обоих произведений является «промежуточным» между деловыми и книжными текстами XVII века: если общее число препозитивных определений в деловых текстах в данный период доходило до 85 %, то в книжных текстах (в том числе в «Ином сказании») – 62–68 % [18: 115–117]. Напомним, что в грамотах Шуйского процент препозиции равен 78 %, а в «Извете» – 72 %. В то же время в произведениях есть и ряд различий:
-
1) Только в грамотах Шуйского обнаружена зависимость позиции притяжательного местоимения наш от одушевленности определяемого.
-
2) В грамотах причастия употребляются активнее, чем в «Извете».
-
3) По-разному ведут себя в текстах отдельные атрибуты: притяжательное прилагательное «божий» в грамотах стремится к постпозиции, но свободно располагается в «Извете».
-
4) Состав дублирующихся предлогов при постпозитивном определении разный: в крестоцеловальных грамотах повторяются предлоги на , въ , о , съ , а в «Извете» старца Варлаама – къ , по , въ , про .
Таким образом, выяснилось, что существовали тексты, в которых особенности книжной речи весьма интересным образом пересекались с явлениями, характерными для деловых документов (по крайней мере в плане атрибутивного словосочетания). Данное наблюдение еще раз подчеркивает сложные взаимоотношения текстов разных регистров в истории русского языка.
Список литературы Об атрибутивных словосочетаниях в "Извете старца Варлаама" и крестоцеловальных грамотах Василия Шуйского
- Борковский В . И., Ку знецов П. С. Историческая грамматика русского языка. 4-е изд. М.: URSS, 2007. 512 с.
- Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М.: URSS, 2002. 448 с.
- Евстифеева Р. А. Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях Новгородской I летописи // Русский язык в научном освещении. 2008. № 2 (16). С. 161-204.
- Гращенков П. В ., Ку рьянова О. В. Порядок атрибутивных прилагательных в истории русского языка и статус прилагательного в структуре именной группы // Rhema. Рема. 2018. № 4. С. 72-108. DOI: 10.31862/2500-2953-2018-4-9-33
- Жихарева Н. Д. Синтаксис простого предложения в языке Уложения 1649 г. и его связь с народно-разговорной речью // Сравнительно-исторические исследования русского языка. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. С. 29-33.
- Ковтунова И. И. Порядок слов в русском литературном языке XVIII - первой трети XIX в. Пути становления современной нормы: Монография. М.: Наука, 1969. 231 с.
- Климовская И. И. О некоторых последствиях инверсии исконно постпозитивного определения в истории русского языка // Ученые записки Томского государственного университета. 1965. Т. 54. С. 78-93.
- Колесов В . В . Древнерусский литературный язык. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 292 с.
- Маруяма Ю. К вопросу о порядке слов в атрибутивном словосочетании в русском языке конца XVII века (на основе редакции «Жития протопопа Аввакума») // Acta Slavaca Iaponica. 2005. Vol. 22. С. 188-214 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eprints.lib.hokudai.ac.Jp/dspace/bitstream/2115/39448/1/ ASI22_010.pdf (дата обращения 14.05.2020).
- Минлос Ф. Р. Линейное положение прилагательных в древнерусском: возвращаясь к статье Д. Ворта // Русский язык в научном освещении. 2010. № 2. С. 287-296.
- Минлос Ф. Р. Позиция притяжательного местоимения и языковые регистры древнерусских текстов // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 15. М., 2012. С. 234-246.
- Назаревский А. А. О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала XVII века. Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1961. 82 с.
- Платонов С. Ф. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. М.: Наука, 2010. 588 с.
- Русская грамматика / Под ред. Н. Ю. Шведовой [Электронный ресурс]. М., 1980. Режим доступа: http:// rusgram.narod.ru (дата обращения 14.05.2021).
- Санников В . З. Согласованное определение // Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения. М.: Наука, 1968. С. 47-95.
- Туфанова О. А. Традиции воинской повести в «Ином сказании» (на примере анализа эпизода осады Новгорода Северского) // Славянский мир в третьем тысячелетии: Россия и славянские народы во времени и пространстве. М.: Институт славяноведения РАН, 2009. С. 237-250.
- Улитова А. С. Когда постпозиция определения в русском языке стала стилистически значимой? // Русистика без границ. 2018. № 2. С. 8-15.
- Улитова А. С. О связи числа и порядка слов в именной группе с одиночным атрибутом (на материале текстов XVII века) // Филология и культура. 2020. № 1 (59). С. 113-120. DOI: 10.26907/2074-0239-2020-59-1-113-120
- Уханов Г. П. К истории атрибутивных словосочетаний. Выражение согласованного определения в «Хожении Афанасия Никитина за три моря» и в произведениях паломнической литературы // Ученые записки Калининского педагогического института. 1957. Т. 19, вып. 2. С. 31-76.
- Шатух М. Г. Структурно-семантические разряды приложений в современном русском языке // Вопросы языкознания: Сборник статей. Кн. 1. Львов: Изд-во Львовского гос. ун-та, 1955. С. 19-32.
- Minlos P. R. Some controversies concerning possessive noun placement in Old Russian // Зборник Матице Српске за филологию и лингвистику, LIV / 2. Нови Сад, 2011. P. 53-59 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.academia.edu/2414293/Some_controversies_concerning_possessive_pronoun_placement_in_ Old_Russian (дата обращения 14.05.2021).
- Worth. D . Animacy and adjective order: the case of новъгородьскъ. An explanatory microanalysis // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1985. № 31/32. P. 533-554.