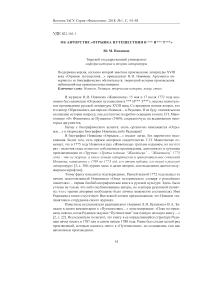Об авторстве "Отрывка путешествия в *** И*** Т***"
Автор: Никишов Юрий Михайлович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Поддержана версия, согласно которой заметное произведение литературы XVIII века «Отрывок путешествия…» принадлежит Н. И. Новикову. Аргументы почерпнуты из биографических обстоятельств, творческой истории произведения, наблюдений над приемами повествования.
Новиков, радищев, творческая история, жанр, стиль
Короткий адрес: https://sciup.org/146278404
IDR: 146278404 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Об авторстве "Отрывка путешествия в *** И*** Т***"
В журнале Н. И. Новикова «Живописец» 15 мая и 17 июля 1772 года анонимно был напечатан «Отрывок путешествия в *** И*** Т***», весьма значительное произведение русской литературы XVIII века. Со временем возник вопрос, кто его автор. Образовались две версии: Новиков – и Радищев. Я не буду отвлекаться на изложение истории вопроса: она достаточно подробно освещена в книге Г.П. Мако-гоненко «От Фонвизина до Пушкина» (1969); сосредоточусь на выдвижении некоторых аргументов.
Начну с биографического аспекта: сколь органично вписывается «Отрывок…» в творческие биографии Новикова либо Радищева?
В биографию Новикова «Отрывок…» входит легко, без нарочитого вталкивания. Более того, есть прямое авторское свидетельство. Г. П. Макогоненко отмечает, что в 1775 году Новиков издал «Живописца» третьим изданием, но на этот раз – включив сюда только его собственные произведения, дополнив их и лучшими произведениями из «Трутня»: « Третье издание “Живописца” – “Живописец” 1775 года – это не журнал, а книга лучших сатирических и нравоучительных сочинений Новикова, написанных с 1769 по 1773 год, его отчет публике, его вклад в русскую литературу » [3, с. 300; курсив здесь и далее авторов, мои выделения даются полужирным шрифтом].
Этому факту находится подтверждение. Ранней весной 1772 года вышел из печати подготовленный Новиковым «Опыт исторического словаря о российских писателях» – первая биобиблиографическая книга в русской культуре. Здесь были учтены не только что-либо опубликовавшие авторы, но и авторы рукописей (понятно, что с такими авторами необходимо было личное знакомство составителя). Имя Радищева в книге отсутствует. Вне всякой логики предположение, что Новиков «запамятовал» сотрудника своего журнала.
Известные исследователи радищевского творения Л. И. Кулакова и В. А. За-падов в своем комментарии к «Путешествию…» констатировали: «Пока по-прежнему неясно, когда Радищев задумал “Путешествие” как единую цельную книгу…» [2, с. 22]. Исследователи полагают, что книгу в ее определившейся структуре Радищев начал писать в 1787 или в самом начале 1788 года. Ранее был создан целый ряд произведений, которым нашлось место в «Путешествии», но создавались они как автономные произведения.
Л. И. Кулакова и В.А. Западов – активные защитники «радищевской» версии относительно «Отрывка…» Излагая творческую историю «Путешествия…», они об «Отрывке…» не упоминают, что не удивительно: приписывание Радищеву авторства «Отрывка…» не помогает уяснению творческой истории «Путешествия…», а совершенно ее запутывает. Радищев вернулся в Петербург после учебы в Германии в конце ноября 1771 года. Определившись на службу в сенат, он через два месяца получил отпуск и уехал к родным в Аблязово. Радищев был еще в Саратовском крае, когда был напечатан «Отрывок путешествия…». Сделаем фантастическое предположение, что он был послан в журнал по почте. Но если «Отрывок…» действительно отрывок, а не жанр журнального произведения, то применительно именно к Радищеву, у которого замысел завершился обширной книгой, надо делать сверхфантастическое предположение, что замысел «Путешествия из Петербурга в Москву» возник у Радищева еще на студенческой скамье. А чтобы печатать отрывок, надо уже было иметь более или менее обширный текст. Невероятно, чтобы (реальное?) начало такой работы оказалось замороженным аж на 15 (!) лет.
Сторонники радищевской версии авторства большое значение придают тематическому сходству описаний в «Отрывке…» и в главах «Любани» и «Пешки». Но сходство тематики – слабый аргумент: да, возможна и тематическая перекличка произведений, но не следует умалять значения общего источника – самой жизни. Гораздо важнее содержательное решение темы. С такой точки зрения в «Отрывке…» можно выделить моменты, которые совершенно не свойственны манере Радищева.
Радищев в своем «Путешествии» показывает как нищету крепостной деревни («Вышний Волочок», «Пешки»), так и сравнительно зажиточных крестьян («Любани», «Едрово»): это нужно ему как аргумент, что к крестьянской реформе нужно приступать немедленно. Если в нищете крестьян полностью обвиняются жестокосердые владельцы крепостных душ, то достаток обеспечивается исключительно самоотверженностью трудолюбивых людей из народа; нет даже намеков на ожидание доброты помещиков. Любопытно и то, что Радищев показывает добродетельных дворян: Крестьянкин («Зайцово»), «гражданин будущих времен», автор проекта об отмене крепостного права («Хотилов»), крестецкий дворянин, но все они показаны вне отношений с крепостными крестьянами.
В «Отрывке путешествия…» иначе. Концовка: «На другой день, поговоря с хозяином, я отправился во свой путь, горя нетерпеливостию увидеть жителей Бла-гополучныя деревни : хозяин мой столько насказал мне доброго о помещике тоя деревни, что я наперед уже возымел к нему почтение и чувствовал удовольствие, что увижу крестьян благополучных» [4, с. 179]. Конечно, отсутствие продолжения «Отрывка…» можно трактовать таким образом: посул увидеть деревню Благополучную оказался посулом; Разоренная деревня показана воочию (этот факт дополняется сообщением: «в три дни сего путешествия ничего не нашел я, похвалы достойного» [Там же, с. 173–174]), а Благополучная деревня осталась мифом. Так что над существованием Благополучной деревни зависает знак вопроса, а все-таки иллюзия посеяна, поскольку нельзя исключить, что побывал путешественник и в деревне Благополучной, да по каким-то причинам этих своих впечатлений не записал (или остался недовольным написанным).
Для Радищева подобная двойная раскладка, плодящая иллюзии, совершенно немыслима. «Русские писатели-сатирики до Радищева, резко нападая на “злонравных” помещиков, противопоставляли им помещиков “добрых”; негодующе по- вествуя о невыносимом положении крестьян в деревне “Разоренной”, подчеркивали наличие деревень “Благополучных”. В “Путешествии из Петербурга в Москву” “благополучных” деревень не существует» [1, с. 266–277].
Вторая часть «Отрывка» начинается картинкой наступающего вечера, люди возвращаются домой после занятий своих. Все довольны прожитым днем! Большой фрагмент перечисляет этих возвращающихся. Тут «богачи, любимцы Плутовы », «люди праздные», «худой судья и негодный подьячий», «волокиты и щеголихи», «ревнивые супруги и любовники», «устарелые щеголихи», картежные игроки (шулера и простофили), купец, врач, стряпчий. Перечень носит сатирический характер. Заканчивается он горькой иронией: «А крестьяне, мои хозяева, возвращались с поля в пыли, в поте, измучены и радовались, что для прихоти одного человека все они в прошедший день много сработали» [4, с. 178]. Понятно, что эта ирония полна сочувствия.
Но сравним с «Путешествием». Ирония – важный и постоянный компонент стиля Радищева, ее диапазон широк, не исключая самоиронии. Сатира не минует заслуживающих ее людей из народа (таковы наглые валдайские девки или детина из главы «Медное»). Но даже намека на иронию нет при изображении крестьян-тружеников. Глава «Любани» завершается обобщением: «Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение» [6, с. 67]. Это – правило, которое не предполагает исключений.
А вот что это, если не прямая полемика с «Отрывком путешествия…»? В главе «Любани» путешественник наблюдает за работой пахаря, сразу делая вывод: «Крестьянин пашет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская» [Там же, с. 65]. Путешественник возвращается к этой теме и в разговоре с пахарем: «– Так ли ты работаешь на господина своего? – Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь» [Там же, с. 66].
Русская литература XVIII века сильна своим антикрепостническим пафосом. Но только Радищев стоял за полную отмену крепостного права. Другие (и многие!) писатели выступали против злоупотреблений этим «правом» со стороны алчных помещиков. Наличие добродетельных помещиков служило оправданию существовавшего строя.
Безнадежно поражены иллюзиями крестьяне «Отрывка путешествия…»: «Мы на бога надеемся, бог и государь до нас милосливы, а кабы да Григорий Терентьевич также нас миловал, так бы мы жили как в раю» [4, с. 178]. Но то – персонажи, а какова позиция писателя? Концовка «Отрывка…» сопровождается примечанием Новикова (на этот раз как издателя журнала) с сообщением, что «по некоторым причинам» из рукописи исключен новый, утренний разговор путешественника с крестьянином, из которого стало бы яснее то, что и так ясно: « путешественник имел справедливые причины обвинять помещика Разоренной деревни и подобных ему» [Там же, с. 179]. А «Благополучныя деревни » надлежит оставить процветать! Так что тут одной иллюзией меньше, но и только.
Попытки радищевского путешественника пойти на сближение с людьми из народа были небезуспешными, но и нелегкими, далеко не всегда приводили к взаимопониманию. Крестьяне «Отрывка» бесхитростны и простодушно открыты в разговоре с незнакомым барином, классового барьера между ними будто не существует; это упрощение.
Обратимся к некоторым наблюдениям над текстом.
Как в трех источниках передается прямая речь персонажей? У Радищева речь крестьян не индивидуализирована, все они говорят чистым литературным языком. Стилизована речь старой матери и девушки-невесты («Городня»), но это особая, жанровая стилизация – под фольклорный жанр плача: так мать и невеста расстаются с парнем-рекрутом. Новиков пытается включать обороты, характерные для устной речи, а поскольку в его творчестве активно используется жанр письма, то устные обыкновения проникают и в письменную речь. В «Копиях с отписок»: робятишки, коровенка, буде не помилуешь, невзгодье, сиротишки, родимой . В сатирических письмах: отпиши, частехонько, по нашей дудке плясать, жалованьев, стрень-брень с горшком, испущая, стали пересмехать, не могши и т. п. А вот в «Отрывке путешествия…»: «по сёсь день», «родимый», « изволит баять », «захватят дожжи». Сходно с Новиковым!
Книга Радищева не художественная, а публицистическая, включающая лишь отдельные компоненты художественного изображения. «Отрывок путешествия…» включает публицистические рассуждения, но стремится предстать художественным описанием. Как отличить одно и другое? Сделаем опорой тезис Пушкина: «Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем» [5, с. 58]. Под таким углом зрения посмотрим на описание «Отрывка путешествия…»: «Между тем солнце, совершив свое течение, погружалось в бездну вод, дневной жар переменялся в прохладность, птицы согласным своим пением начали воспевать приятность ночи, и сама природа призывала всех от трудов к покою» [4, с. 177]. Напыщенность описания тут несомненна. Но писатель старался следовать принятому в свое время канону! Радищев на чисто эмоциональные описания не отвлекался.
Но вот факт иного плана. Новикову, активно работавшему в жанре сатирического письма, привычно адресата иметь в уме; отсюда и непроизвольное желание прямого к адресату обращения и в иных жанрах. Аналогичное в «Отрывке…»: «Вот плоды жестокости и страха, о вы худые и жестокосердые господа! вы дожили до того несчастья, что подобные вам человеки боятся вас, как диких зверей» [Там же, с. 176]. Такого рода восклицания встретим и у Радищева. Вот самое колоритное: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем, – воздух. Да, один воздух» [6, с. 187].
К этому можно прибавить, что отмечалось сходство композиции «Отрывка» и радищевских глав: сочетаются размышления, описания, гневные авторские эмоции. Не вижу никакого ущерба для престижа Радищева, если допустить, что он плодотворно воспользовался литературным опытом Новикова. Что опыт современников для Радищева значим, свидетельствуют прямые отсылки к творчеству Фонвизина, причем не только к известному и популярному «Недорослю», но и к рукописной «Придворной грамматике». На Новикова Радищев не ссылается, может быть, и потому, что считает для себя неудобным ссылаться на лидера русских масонов. Но какие препятствия к использованию литературного опыта? Это нисколько не умаляет оригинальности Радищева-писателя. Ему было что сказать! То, что он сделал, сделал только он один.
«Отрывок…» ничего не добавляет к славе Радищева-писателя: творческое бессмертие ему обеспечивают другие его творения. Напротив, если мы будем считать автором «Отрывка…» Новикова, это добавит авторитета русской литературе XVIII века, поскольку будем опираться на еще одно острое социальное произве- дение, как раз соответствующее двойственной позиции Новикова, резкого критика действительности, но не как строя, а его извращений. Это и знак зрелости литературы, когда ее движение отчетливее определяется как процесс – с взаимным влиянием и отталкиванием.
Список литературы Об авторстве "Отрывка путешествия в *** И*** Т***"
- Благой Д. Первый русский писатель-революционер Александр Радищев//Радищев А. Н. Избранное. М.: Моск. рабочий, 1959. С. 267-287.
- Кулакова Л. И., Западов В. А. А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Комментарий. Л.: Просвещение. 1974. 256 с.
- Макогоненко Г. От Фонвизина до Пушкина. Из истории русского реализма. М.: Худож. лит., 1969. 511 с.
- Новиков Н. Избранное. М.: Правда, 1983. 512 с.
- Радищев А. Н. Избранные сочинения. М.: Худож. лит., 1952. 712 с.