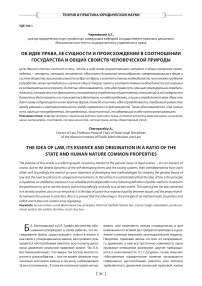Об идее права, ее сущности и происхождении в соотношении государства и общих свойств человеческой природы
Автор: Чернявский А.Г.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 2 (47), 2017 года.
Бесплатный доступ
Цель данной статьи состоит в том, чтобы в виду вновь возрастающего интереса к общим вопросам право- ведения, - интереса, который, несомненно, обусловлен динамикой многообразных саморазвивающихся форм и систем общества, взаимозависимости их друг от друга, а соответственно необходимости постановки проблемы разработки новых методологий изучения общей теории права и соответственно необходимости расширения ее категориального аппарата. В статье, обосновывается, что идея права есть принцип регулирующий, определи- тельный, потому она так драгоценна и незаменима в определении общественных отношений: в ней содержится дозволение действовать или пользоваться действием, но небеcпредельно, а лишь в определенной мере. Меру эту дает праву содержащаяся в нем скрытно другая, тоже до-опытная, идея справедливости, требующая равенства между равными и пропорциональности между неравными по деятельности. Также обосновывается, что польза есть принцип неопределенный, беспредельный, эгоистический, не содержащий в себе ничего регулирующего.
Природа человека, социальные явления, принципы права, исторический метод, римское право, назначение науки, материализм, позитивизм, система права, общественный строй
Короткий адрес: https://sciup.org/14120186
IDR: 14120186 | УДК: 340.1
Текст научной статьи Об идее права, ее сущности и происхождении в соотношении государства и общих свойств человеческой природы
Б.А. Кистяковский и Д.А. Гурвич достаточно обоснованно утверждают в своих работах, что исследование права, существующего только в жизни и вне связи с утвержденным в законе, как правило, оказываются неспособными охватить всю полноту динамики движения реальной правовой жизни. Так Б.А. Кистяковский пишет, что «жизнь так богата, многостороння и разнообразна..., она не может целиком подчиниться контролю закона и органов, наблюдающих за их исполнением... К тому же писанное право непод- вижно, оно изменяется только спорадически, и для изменения его всякий раз требуется приводить в движение сложный механизм законодательной машины. Напротив, правовая жизнь состоит из непрерывного движения, в ней все постоянно изменяется, одни правовые отношения возникают, другие прекращаются и уничтожаются» [1]. Г.Д.Гурвич, также отмечал: «Абстрактные юридические понятия оказываются совершенно неспособными охватить всю полноту турбулентного движения реальной правовой жизни с ее спонтанно возникающими и непредсказуемыми институтами» [2].
Любое общество состоит из его членов (человек), значит жизнь общества (социальная, правовая) есть совокупность деятельности людей, как членов общества. Эта деятельность обуславливается совокупностью следующих факторов: внутренних, – особенностями индивидов, составляющих общество, и внешними, – окружающей средой. Объединяя эти факторы, мы получим сущность человека и среду в которой он находится.
Если бы мы захотели когда либо изучить какое-либо из существующих или существовавших государств по оставшимся от него памятникам, то-есть указать основание его законоположений, в целом или по отдельным частям, то уже по факту можно сказать, что эти основания лежат в следующих причинах:
-
1. В общих свойствах человеческой природы;
-
2. В особенных свойствах народа населяющего конкретное государство;
-
3. В исторических условиях, среди которых данный народ действовал;
-
4. В географических условиях конкретной местности.
Следовательно, можно сказать вообще, что эти четыре причины или основания определяют собой жизнь государственного организма. Но если мы хотим изучить организм государственный вообще, а не того или другого государства в частности, то для нас главной целью будет определить воздействие первого ряда причин, общих свойств человеческой природы, а все другие причины будут нас интересовать лишь настолько, насколько они могут изменять эту первую основную причину бытия государства.
Словом этот ряд первых оснований является как ряд оснований определяющих, а все другие лишь как дополняющие, уясняющие их, ибо если мы признаем, вместе с идеализмом, что духовно-нравственная сторона человеческой природы всегда была и есть едина, то все цивилизации, как и все государства будут лишь указывать, что способствовало и мешало проявлению той или другой стороны человеческой природы.
Сила последнего положения покоится на принятии единства духовно-нравственной природы человека с таковою же всех живущих и живших когда-либо людей. Она доказывается, однозначно, во-первых, тем, что мы имеем способность понимать друг друга; во-вторых, понимать оставшиеся памятники духовной деятельности наших предков вообще; в-третьих, самим свойством способности понимания.
Материализм и позитивизм отрицают существование в нас особой духовной способности понимания, но отрицая ее, они делают из самого понимания случайный акт нашей душевной деятельности.
Рассмотрим доводы материализма и позитивизма.
«Все наши размышления, говорит Огюст Конт, одновременно возбуждены, как и всех других явлений жизни, посредством нашей внешней организации, определяющей способ воздействия (чего либо на нас), и посредством внутренней организации, определяющей для нас результат личной убедительности (чего-либо для нас)». «Все наши действительные знания, говорит он в другом месте, необходимо относительны, определяемые с одной стороны, тем, поскольку среда способна содействовать на нас, с другой стороны – тем. поскольку организм чувствителен к действию» [3].
Конт думает, что этими аргументами он разрушает только абсолютное знание вещей, тогда как он уничтожает вообще всякое знание, всякое понимание (абсолютный скептицизм). Возможность понимания и результата его знания могут существовать в нас по отношению ко всем свойствам вещей (вещи в себе), так что при этом для нас не было бы тайны ни в свойствах нашего духа, ни в свойствах каких либо других вещей, причем не все свойства вещей будут доступны нашему; или наконец, вообще, мы не можем сделать верного истинного суждения не только о вещах в себе (знать вещи не только такими, какими они кажутся. но и их внутренние свойства), но и не об одном из их проявлений.
Можно согласиться, что относительно вещей в себе мы имеем лишь умозаключения, не имеющие абсолютной и необходимой убедительности для нашего сознания, верховного и неограниченного повелителя нашей жизни.
Мы можем доказывать простоту, неразлагае-мость, не протяженность души, или что мир состоит из атомов, одинаковых или различных по свойству, без полной, очевидной убедительности, т.е. мы владеем абсолютным знанием. Но эта невозможность абсолютного знания лежит не в свойствах нашей души, но лишь в свойствах нашей материальной организации. Она указывает не на недостатки в самой способности нашего понимания, но лишь на то, что оно заключено в известные ограничивающие его рамки. Так, о глазах, можно сказать, что они близоруки или дальнозорки, или слабы, или нуждаются в известных условиях, например свет, но способность видения в них или может существовать или не существовать. В первом случае она всеобща, а во втором – ее совсем нет. Точно также пониманию неизменно пресуще свойство составлять верные, истинные заключения, без чего оно не было бы пониманием.Наши заключения ограничены известными пределами, но в этих пределах они могут быть абсолютно истинны.
Если мы отвергнем это, то тем отвергаем не только возможность абсолютного знания, но и вся- кого знания вообще, или, иначе говоря, наше знание относительно, лишь в смысле отсутствия в нем всеобщности, а не в смысле отсутствия верности в тех суждениях, которым наше сознание вполне доверяет. Доказывать же относительность нашего понимания вообще – это значит доказывать, что мы не можем иметь ни одного верного суждения вообще, или что такие суждения случайны; но и то, и другое уничтожают в основе самое понимание.
Наши суждения могут быть или верны, или ложны, но не могут быть верными наполовину. Если бы они были случайно верны, то имели бы убедительность лишь для одного лица, их нашедшего, и лишь для одного момента; но даже и это лицо и в этот момент не могло быть убеждено в верности суждения.
Сам Конт понимая, что своими положениями разрушает «всякую основательность наших мнений», думает избежать абсолютного скептицизма, необходимо вытекающего из его положений, признавая, что единство понятий устанавливается вследствие сходства человеческой организации и одинаковости среды. но эта поправка не изменяет дела, ибо ею также отрицается понимание вообще.
Одинаковость среды и сходство организации указывают лишь на сходство впечатлений, могут объяснить сходство представлений ума о предметах, но не могут объяснить тождественности хотя бы одного суждения, одинакового у всех людей. Одинаковость среды определяет лишь тождественность предметов, на которые может направляться познавательная способность, но тождественность основоположений всякого ума не может быть объяснена из сходства организации, а без этой тождественности основоположений, аксиом, к которым должно быть сводимо всякое суждение, немыслимо понимание ни предметов, ни суждений людей.
Понимание вообще обуславливается тем, что мы одну и ту же способность, действующую всегда на одинаковых основаниях, направляем на различные предметы, определяя целостно и однообразно их отношения друг к другу, а понимание людей между собою обуславливается лишь тождественностью этой способности у всех. Различие мнений людей объясняется не различием их способностей, но не достаточностью оснований в суждениях.
Мы стараемся добиться согласия, возводя суждение к одним общим всем основаниям, ибо самое понимание обуславливается существованием единой истины, как един ум, так что истина субъективно есть полная и необходимая убедительность ума в чем-либо; объективно она есть согласие предмета с суждением. Полное же согласие того. что необходимо убедительно для одного, с такою же убедительностью для всех, указывает на то, что познавательная способность безлична. «Жалкий дикарь, как спра- ведливо выражается Гердер, видевший мало вещей и имеющий еще менее понятий, однако составляет их не иным путем чем и глубочайший философ. Дикарь, самостоятельно думающий, есть существо более мыслящее, чем те ученые, которые лишь повторяют за другими» [4].
Но единство духовных способностей, как указывает история народов и индивидов, не исключает бесконечного разнообразия в проявлениях духовной жизни. Это разнообразие, снова повторяем мы, имеет своим источником, не разнообразие оснований, но лишь бесконечное содержание, заключенное в духе, которое в его целости не могут исчерпать не только индивиды, но и народы. Разнообразие в духовном характере народов объясняется тем, что один народ развивает по преимуществу одну сторону человеческого духа, другой – другую, причем на этих сторонах сосредотачивает почти все свое внимание.
Единство человеческого духа в своих основаниях здесь обнаруживается в том, что один народ принимает стремления и результаты другого, хотя в его сфере и не может возвыситься до его результатов. тот факт, что мы восхищаемся греческой красотой, точностью определений римского права, непреклонной логикой индийских философских систем, нравственным изречением китайских основных книг, ясно доказывает, что все народы есть только выразители разных сторон человеческого духа, одинакового в своих основаниях. Без принятия этого предположения народы не только не могли бы восхищаться и подражать духовной деятельности один другого, но даже и понимать ее.
Но бесконечное содержание человеческого духа, обуславливающее собою возможность бесконечного прогресса, объясняется тем, что даже в своей специальной области народы не могут исчерпать всего своего содержания.
Греки не исчерпали идеи красоты, римляне – всего содержания права, и т.д. Точно также и не раскрыто и содержание идеи государства. Если мы стремимся указать связь между государством и духовным свойством человека, то эта задача, в сущности, двойственна. Она содержит в себе задачу объяснить соотношение между духовной сущностью человека и существовавшими государствами, а также задачу указать, какие из духовных потребностей человека не были удовлетворены существовавшими государствами, раскрыть еще не раскрытое содержание идеи государства. Этим указанием задач мы, конечно, не хотим сказать, что они могут быть исчерпаны каким либо одним исследованием, но для начала указать, в чем должны состоять эти задачи.
Обратимся теперь к основным свойствам нашего духа, определяющим и направляющим нашу духовную деятельность. Наш дух управляется идеями.
мы употребляем выражение «идеи» для выражения тех вечных типов, которые определяют и регулируют различные стороны человеческой духовной деятельности. Слово «идея» мы употребляем в том же смысле, какой ему давали Платон и Кант. «Платон, говорит Кант, употреблял слово идея, разумея под нею, очевидно, нечто такое, что никогда не может быть заимствовано нами от чувств, а, напротив, далеко превосходит понятия рассудка, ибо в опыте никак нельзя найти чего либо равносильного идее» [5]. «Под идеей, говорит Кант, я разумею необходимое понятие разума, которому нет соответствующего предмета в нашей чувственности» [5].
Под идеями мы разумеем понятия данные в смысле ли прирожденности их душе, или в смысле их свойственности душе, в силу которой дух неминуемо, неизбежно приходит к ним, находя в них руководящие начала, определяющие и направляющие душевную деятельность.
Идеи составляют, говоря количественно, самую незначительную часть возможного содержания нашего мышления. В их содержании нет ничего относящегося к ощущению или заимствованного от ощущения: они есть чистые произведения разума. Предметы, к которым относятся идеи, мы не имеем способности представлять наглядно, подобно предметам, о которых понятия мы почерпаем из чувственного опыта.
Не имея намерения исчерпать все понятия, которые по отсутствию для них предмета в чувственном опыте, должны быть названы идеями, укажем на те из них, которые близко относятся лишь к предмету нашего исследования. Так, наши понятия о боге, долге, добре, праве, справедливости есть идеи, коих предмета мы не имеем в чувственном опыте.
Самое признание существования в нашем мышлении идей, конечно, обуславливается признанием существования в нас особой духовной сущности, а потому материализм, или, его видоизменения, позитивизм, конечно, стремится отрицать существование идей. «Мы рассматриваем, говорит Конт, всякий предмет последовательно, с трех сторон: мы называем его добрым в отношение действительной его полезности, которую мы можем извлечь из него для удовлетворения наших частных или общих нужд; как прекрасный в отношение к чувству совершенствования, которое может доставлять нам его созерцание, и, наконец, как истинный во внимание к его действительным отношениям ко всей целости явлений, доступных нашему наблюдению, устраняя при этом всякую оценку предмета со стороны его пользы или тех движений, которые он возбуждает в человеке» [3].
Очевидно, что Конт стремится доказать, что идеи добра, красоты и истины возникли в нашем уме не чрез его самодеятельность, но через соприкосно- вение к опыту, или прямо опытно. Эта попытка была бы основательно, если бы можно было бы доказать, что они действительно так возникли, и идеи действительно означают то, что разумеет под ними Конт.
Действительно, понятие пользы мы извлекаем из опыта, но для того, чтобы доказать, что и идея добра возникла из опыта, нужно доказать или что эти идеи тождественны или близки, так что одна может превратиться в другую, подобно тому как понятие сильной усталости может обозначаться особым термином «изнеможение», или что они находятся в необходимой связи, так что одна неминуемо вызывает другую, подобно тому как идея конечного вызывает идею бесконечного; или что по отношению к нам идея добра и понятие пользы возбуждают в нас одинаковое действие.
Но идея добра не тождественна с понятием пользы. Идея добра и понятие пользы могут служить руководящими началами, но не в одинаковых случаях и не обозначая одного и того же. Понятие пользы, например, относится и к определению отношений между лицами и вещами, тогда как идея добра здесь не применяется. Понятие пользы и идея добра, правда, одинаково применяются к определению отношений между лицами, но в различном значении: отношения, обуславливающиеся пользой, интересом, совершенно не те, которые мы называем добрыми. Идея добра не могла произойти из понятия пользы, как понятие изнеможение – от понятия усталости, ибо и сильнейшая польза нисколько не приближается к идее добра.
Понятие пользы не вызывает идеи добра, как отрицательное понятие вызывает положительное, как понятие пользы вызывает понятие вреда. Идея добра и понятие пользы действуют на нас различным образом. Мы спокойно можем пренебрегать тем, что полезно для нас, но мучаемся, когда мы поступаем не согласно с идеей добра. Мы восторгаемся действиями других не в силу их полезности, но когда в основании этих действий лежит идея добра, ведь изобретатель чего-либо полезного для всех не возбуждает в нас восторга, какой возбуждает в нас доброе дело, совершенно бесполезное для нас. В энтузиазме от идеи добра мы для нее жертвуем жизнью, т.е. сферой, в которой может проявляться полезное. «Когда, говорит Кузен, добродетель вознаграждается, порок наказывается, мы признаем это в порядке вещей; когда же добродетель остается без награды, порок без наказания, то это мы называем беспорядком. Но ни то, ни другое не имеют в своем основании полезности... Если бы наказание не имело другого основания, кроме пользы, то оно лишилось бы и последней, ибо для того, чтобы наказание было полезно, нужно в 1-ых, что бы тот, кто понес наказание, сознавал, что он справедливо наказан и с соответственным расположением принимал наказание; в-2-х, чтобы зрители находили, что виновный справедливо наказан, как виновный. Отнимите это основание справедливасти – и вы разрушите полезность наказания» [6].
Все это как кажется, достаточно объясняет, что идея добра не могла возникнуть из понятия опыта, пользы.
Еще в меньшей степени можно сказать, что идея прекрасного возникает из нас от созерцания того, что приводит в нас стремление к усовершенствованию.
Во-первых, такое стремление производит в нас не идея прекрасного, но идея добра, потому что прекрасное есть конечно в человеке, как то, его возвышенный образ мыслей и характер. Идея прекрасного в состоянии возбуждать в нас стремление к самоусовершенствованию, лишь возбуждая в нас идею доброго, по естественной ассоциации идей. Притом если прекрасное мы понимали лишь из опыта, то тогда мы бы не смогли судить даже о прекрасном в опыте и не могли бы сознательно производить прекрасное. «Истины рациональные, справедливо говорит Аристотель, основы суждения, истины первые, принципы не отыскиваются; они вызывают невольно наше согласие, нашу веру; нечего искать их оснований: они покоятся на себе самих». «Вы не можете мыслить, говорит Платон, без помощи общих понятий; вы не можете что-либо доказывать, определять как не с помощью общих понятий.Общие понятия суть принципы ваших суждений и определений. отсюда ясно, что эти понятия не объяснимы из понятий частных, потому что эти последние не понятны без них».
Наконец, идея истинного приходит к нам от понимания отношения предмета ко всей картине целостности явлений. Прежде чем дух начинает действовать, для него уже существует истинное в том, что невольно вызывает его согласие. Безусловные истины только те, как справедливо говорит Кант, которые мы знаем a priori, до опыта; наоборот, всякое знание получаемое нами из опыта, условно, а следовательно типичная идея истины не могла бы никогда получиться из опыта, так как всякое знание из опыта условно.
Другие из основных идей человека, относящиеся ближе к предмету нашего исследования, Конт или совсем выкидывает или объясняет их также своеобразно. «Слово, право, говорит Конт, должно быть удалено из истинного политического языка, как и слово причина из языка из языка философского: из этих двух понятий теолого-метафизических одно отныне безнравственно и анархично (право), другое – нерационально» [7]. Для определения отношения членов общества между собой он считает вполне достаточной идею обязанности, которую выводит из подчинения рассудка сердцу. «Позитивизм, говорит Конт, воздвигает фундаментальную догму, одновременно философскую и политическую, именно – постепенное преобладание сердца над умом».
«Ум назначен не царствовать, а служить; когда он стремиться к господству, он поступает на службу личности, вместо того, чтобы помочь развитию общественности» [8]. Возникновение идеи Божества Конт объясняет из потребности неразвитого научно духа в цельном миросозерцании в силу нелепого искания причин.
Вычеркнуть идею права из лексикона – не значит вычеркнуть ее из человеческой души. Объяснив идею добра из опытного понятия пользы, Конт обрезал себе все источники объяснить идею права из опыта; он принужден был отбросить ее. Все эмпиристы вообще находятся в затруднении объяснить опытно происхождение идеи добра и права, встречая в опыте только одно понятие пользы, которое с различными натяжками еще можно употребить для объяснения одной из этих идей; но тогда остается затруднение, как объяснить другую, или обратно. Смешно находить предлог для вычеркивания идеи права в том, что она будто бы производит анархию, когда как только она в состоянии внести порядок в общество. Идея обязанности теряет всякое содержание и смысл без соответствующей ей идеи права. Она – сиамские близнецы, причем смерть одного, причем смерть одного вызывает смерть другого. Именно, наоборот, идея обязанности внесет полную анархию в общество, если мы удалим идею права, ибо тогда в обществе не может установиться ни одно определенное отношение, то явится полная анархия, анархия абсолютная.
Столь же мало можно объяснить идею долга «логикой сердца» В сердце не содержится никакой логики. Оно в состоянии лишь отражать впечатления душевной жизни, мира идей. Человек мало нравственно-развитой, то – есть который мало развил в себе идею добра, будет хладнокровно смотреть на самые возмутительные жизненные явления. Чувствительность не развивается в сердце ужасными явлениями, а притупляется, как свидетельствует ежедневный опыт, тогда как если б сердце имело логику, оно должно было поступать наоборот. Обратно же, воспитание в себе нравственных идей развивает нежность сердца, таким образом, не первое происходит от последнего, а последнее из первого.
Источник идеи Божества нельзя искать в потребности стройного миросозерцания. Она исчезает и тогда, когда эта стройность становится возможной и другим путем, навсегда оставаясь присущей душе как интуитивно, так и тогда, когда мы предаемся размышлениям. невозможно истребить ее в душе, как и идею причинности, не погружаясь в совершенный хаос явлений, в котором перестает существовать какая либо точка опоры. Логически, последовательно, отринуть понятие причинности – это не значит прийти к позитивизму мышления, а к абсолютному скептицизму, к хаосу мысли, которому можно найти подобие в хаосе общества, построенному на идее обязанности.
Таков новейший результат попытки эмпирически объяснить происхождение идей человека. Обратимся к важнейшим из более ранних попыток эмпирического объяснения основных идей, имеющих отношение к нашему предмету. Такими попытками необходимо признать попытки Гоббеса и Спинозы.
Гоббес, убежденный, что понятие права и добра не находится в человеческой душе, думает установить их с помощью государственной власти.
«Природа человека, говорит Гоббс, существенно эгоистична и в себе самой не носит нравственного закона. Природа, говорит он, заставляет человека желать и хотеть bonum sibi, т.е. того, что есть добро для него, и избегать того, что вредно. Человек называет правом, jus, непорицаемым то, что непротивно разуму, – свободу употреблять свойственные человеку силу и способность. Человек получает от природы право сохранять свою жизнь и члены всею своею мощью» [9]. Каждый человек, по природе, имеет право на все вещи, т.е. делать по отношению к вещам то что он хочет, т.е. владеть, употреблять, пользоваться вещами, поскольку он хочет и может. Потому справедливо, что «natura dedit omnia omnibus», т.е. природа дала все всем, так что jus и ntile, право и польза, одно и тоже [9]. Но так как такое право всех на все равняется тому, как бы никто не имел права ни на что, то отсюда в естественном состоянии война всех против всех. В соответствии с своим понятием права Гоббс старается основать и естественную мораль точно также из эгоистических побуждений человека. Естественная мораль, илизакон природы, основанная на разуме, предписывает человеку одно общее руководящее начало, искать мира всеми возможными средствами [9]. Из этого общего начала вытекают все правила Гоббсовой морали. Ради достижения общего мира, каждый должен признавать других равными себе, воздавать равное равным. Теми вещами, которые не могут быть делимы, пользоваться вместе, а другими – по числу лиц, или безразлично, если этих вещей, по их количеству, достанет на всех, теми же вещами, которые не могут быть делимы, но которыми невозможно пользоваться вместе, должно пользоваться по жребию или попеременно. В случае спора, отдавать дело на решение третьего, пользующегося доверием обеих сторон. Не навязываться с советами к тем, ко их не просит. Каждый должен помогать и оберегать другого, сколько может, без опасности для своей особы и потери средств для поддержания и защиты себя. Каждый должен прощать другому обиду, при раскаянии обидчика и обязательств впредь не совершать обиды; месть дозволяется лишь для обеспечения себя в будущем, а потому не может быть прилагаемаза прошедшие обиды. Каждый должен вести торговлю со всеми безразлично» [10]. Эти законы природы, по Гоббсу, есть законы повелевающие в несобственном смысле; они называются за- конами не по отношению к природе, но по отношению к создателю природы, Божеству [10]. Соблюдение всех вышеозначенных предписаний разума есть добро, несоблюдение – зло, потому что разум говорит человеку, что только при их соблюдении он может устроить себя [10].«Сумма добродетели, говорит далее Гоббс, быть общежительным с теми, которые хотят быть общежительными, и строгим к тем, которые не хотят быть ими [10]. Само Божество, по Гоббсу, имеет лишь косвенное отношение к этим законам природы, как создатель человеческой природы, давшей ей основание, но не как существо абсолютно-доброе, требующее доброго от своих созданий во имя самого добра».
Эти основания права и морали не состоят в ближайшей связи с положительным правом Гоббса, они служат лишь как бы поводом для образования права производного, являющегося государством. По естественному или нравственному закону, человек ищет мира, ради чего он должен отказаться от естественного права на все. Но самый отказ, как простое объявление воли, недостаточен, необходимо для обеспечения мира, чтобы каждый перенес свое право на лицо (физическое или юридическое), т.е. ясными знаками объявить, что переносящий не будет противиться употреблению этим лицом перенесенного права по его воле, подобно тому как, перенося право на вещь на другого, мы отказываемся от употребления вещи [10].
Когда человек переносит свое право на другое лицо, не получая за это обоюдного вознаграждения в прошедшем, настоящем и будущем, то это называется свободным даром, когда он переносит свое право за обоюдное вознаграждение, то это есть обоюдным дар, или контракт. Только через контракт, по Гоббсу, образуется право, только нарушение контракта составляет несправедливое, т.е. право, по Гоббсу, вытекает из субъективной воли лиц и поддерживается его моралью, или, что одно и тоже, житейским благоразумием. Но естественный закон, или мораль и право, вытекающий из договора, не обеспечивает мира без государства, т.е. без создания единой общей власти, п.ч. естественные страсти мешают человеку подчиниться естественному разуму, или морали. Без единой общей власти в союзе людей не могут быть достигнуты мир и безопасность. Власть эта образуется таким образом. Каждый член союза обязывается, по договору, по отношению к каждому лицу или совету лицо исполнять то, что они повелевают, и не делать того, что они запрещают. Союз, образуемый таким образом, есть государство. Высшая и единая цель государства состоит в осуществлении естественного закона, или морали, к которой сам по себе безуспешно стремился бы человек. Благо, для которого учреждается политическое тело, есть мир и сохранение каждого отдельного человека – цель, выше которой ничего не может быть [10].
«Для достижения этой высокой цели, суверену, говорит Гоббс, предоставляется судить, какие мнения и доктрины ведут к миру или противны ему, а следовательно ему принадлежит и указание, ко, по какому случаю, о чем, в каком размере может говорить к народу. Суверену предоставляется полная власть установить правила, на основании которых определяется, что каждый может знать, каким пользоваться имуществом и какие действия он может совершать, не опасаясь быть оставленным своими сограждана-ми»[11]. Свобода подданных остается лишь в тех действиях, которые суверен, регулируя их действие, позволил им, как-то: покупать и продавать, совершать различные договоры друг с другом, избирать себе местожительство, род пищи, способ жизни и управлять своими детьми, как кто считает за лучшее» [11]. Из принципа абсолютного повиновения установленной власти Гоббс делает только два исключения: во-первых, человек может отказаться умертвить себя и во-вторых, сознаться в своем преступлении.
Не говоря уже о том, что Гоббс делает два противоречащих между собой определения права, признавая правом и «свободу употреблять силу и способность», и всякое обязательство, вытекающее из контракта, – он смешивает идею права и добра и, в конце концов, приходит к тому, что передает государству установить и доброе, и правовое. Все это лучше всего доказывает недостаточность его оснований. Действительно, право имораль Гоббса выведеныопытным образом, из понятия пользы. Его право есть ничто иное, как полное дозволение индивиду делать все, что ему может быть полезно. Его мораль – советы житейского благоразумия, основывающегося на положении, что мир есть условие полезнейшее для проявления деятельности индивида. В его морали исчерпано все, что можно опытным образом вывести для нее из понятия пользы. Но в выводах Гоббса лучше всего видно, что между идеями права и обязанности, которые apriori находятся в душе, и опытными понятиями права и морали лежит непроходимая бездна.
Идея права есть принцип регулирующий, определительный, потому она так драгоценна и незамени- ма в определении общественных отношений: в ней содержится дозволение действовать или пользоваться действием, но небеcпредельно, а лишь в определенной мере. Меру эту дает праву содержащаяся в нем скрытно другая, тоже до-оптная, идея справедливости, требующая равенства между равными и пропорциональности между неравными по деятельности. Между тем польза есть принцип неопределенный, беспредельный, эгоистический, не содержащий в себе ничего регулирующего.
Нельзя сказать, чтобы кому-либо было бесполезно обладание всеми пятью частями света и плодами деятельности всех людей. Точно также мораль, основанная на понятии пользы, никак не может получить присущего в идеях добра и справедливости элемента безусловности, категорического императива. Результат этих оснований в его праве, отсутствие обязательности в его морали он должен был дополнить, дозволяя абсолютной государственной власти дать определенность его праву и обязательность его морали. Но право и мораль, основанные на произволе субъекта государственной власти, кто бы им ни был, т.е. монарх, аристократия или большинство в демократии, если этот субъект будет руководиться его же принципом пользы (для одного, для немногих или для большинства), столь же мало способны установить правовое.
Почти то же замечание сделал и Шталь. «Грубый абсолютизм государства над личностью, говорит Шталь, произошел от бессодержательности социальных отношений, из которых выходил Гоббс; лишив человека всяких нравственных идей, он должен был строить государство на основании чистой человеческой воли» [12].
Хотя в философском отношении более строго выведена, но в сущности, столь же слаба попытка Спинозы обосновать идею права на опытном понятии силы.
Я вполне убежден, что в предложенном мною подходе найдется много пробелов и, может быть, логических промахов, но я рассчитываю на снисходительное внимание публики, ибо вопрос, рассматриваемый здесь, почти не был затронут ранее.
Список литературы Об идее права, ее сущности и происхождении в соотношении государства и общих свойств человеческой природы
- Кистяковский Б.А. Философия и социология права. Спб., 1998. С.206-207.
- Гурвич Г.Д. Социология права. Спб., 2004. С.575.
- O.Кont "Course de philosofie positive", V1, 3 édition augmentee d'une preface par E. Littre et d'une table alphabetique des matieres. J.B. Bailliere et Fils [etc.], 1869. page 621-622.
- Гердер И. «Идеи к философии истории человечества» («Ideen zur Philosophic der Geschichte der Mensch-heit») (1784-1791), Издательство: «Наука», 1977. 704 с.
- И. Кант «Критика чистого разума», ЭКСМО, 2006 г., стр. 275.