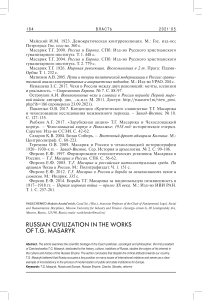Об институте мести и характере власти в монгольском обществе
Автор: Гомбожапов Александр Дмитриевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о характере власти в монгольском обществе в связи с бытованием института мести. Родоплеменная структура монгольского средневекового общества естественно предполагала существование кровной мести как регулятора общественных отношений. Автор показывает, что в условиях политической интеграции и установления централизованной власти в период Монгольской империи обычай кровной мести не был устранен. С распадом империи и ослаблением власти общемонгольского правителя можно предполагать, что кровная месть стала применяться шире. Окончательная отмена обычая кровной мести и правосудие на основе закона зафиксированы в нормах монгольских уложений второй половины XVI - XVIII в.
Кровная месть, монгольский суд, власть, правовой памятник
Короткий адрес: https://sciup.org/170191671
IDR: 170191671 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v29i5.8552
Текст научной статьи Об институте мести и характере власти в монгольском обществе
Н аличие принципа равного возмездия, на основе которого регулируются социальные отношения и строится правопорядок, однозначно свидетельствует об отсутствии в обществе независимой власти, которая имела бы монопольное право на насилие, и является показателем того, что общество основано на ранних формах организации человеческих коллективов.
В монгольском обществе на раннем этапе его развития, безусловно, бытовал обычай кровной мести. Многочисленные примеры в подтверждение этому мы находим в фольклоре и летописных источниках [Малиновский 1909]. Выдающийся ученый Б.Я. Владимирцов при характеристике рода у монголов среди прочих условий, формирующих родственный коллектив, отмечал, что род являлся довольно типичным союзом кровных родственников, связанным институтом мести и особым культом [Владимирцов 1934: 70].
Знаменитый ученый-монголовед П. Рачневски пишет, что характерной чертой Чингисхана была его мстительность. «Мысль о мести лежит в основе правосознания кочевников: обязанность мстить передается от поколения к поколению, и Чингис признает это своим долгом. Мысль о возмездии определила его жизнь, и он не забывал никого из тех, кто причинил оскорбление ему или его семье» [Ratchnewsky 1983: 135]. Наиболее известным примером может служит месть татарам, с которыми монголы находились в постоянном конфликте, а для самого Чингисхана она была мотивирована и обязанностью отомстить за отравление своего отца Есугея.
Более того, месть могла быть использована в качестве обоснования военных походов на соседние государства. Так, одним из поводов к объявлению Чингисханом войны империи Цзинь стала месть за позорную смерть хана Амбагая1, что в глазах соплеменников выглядело вполне оправданным. Г.В. Вернадский пишет, что «в родовом обществе степей кровная вражда продолжалась годами, и оскорбление, нанесенное праотцам, остро ощущалось их внуками и правнуками» [Вернадский 1997: 40-41].
Кровная месть как древнейший институт был порождением родовой органи- зации общества. Однако с разложением родоплеменной системы и организа- цией общества на иных принципах кровная месть не обязательно утрачивает свое значение и может значительное время существовать наряду с институтами государственной власти. В монгольском средневековом социуме, основанном на родоплеменной структуре, обычай кровной мести выступал как важный инструмент регуляции межгрупповых отношений. И мы встречаемся с фактами его бытования при разных уровнях сложности политического устройства и интеграции монгольского общества.
Со становлением Монгольской империи власть начала приобретать более централизованный характер и концентрироваться в одних руках. Сформировавшаяся централизованная политическая система стала отчуждать право частного самоуправства. Начала действовать судебная власть. Основой для осуществления правосудия служили положения Ясы Чингисхана (свод запретов и правил). По мнению многих исследователей, Яса не могла регламентировать все стороны общественной жизни и действовала наряду с обычным правом. Это ограниченность, свойственная ранним формам права, отражала процесс постепенного укрепления государственности. Как замечает В.А. Рязановский, «свидетельства современников и другие исторические данные доказывают, что в эпоху Чингисхана и его преемников правильной организации отправления правосудия не было... Организация судебной функции находится лишь в зародыше. Мы видим здесь назначение главных судей, но наряду с исполнением других функций... По особо важным делам судил главный судья или же назначались судьи ad hoc и производилось разбирательство дела, причем не стеснялись тем, что обвинитель являлся и судьей. В менее значительных обыкновенных случаях ограничивались административной расправой (при дворе хана) или даже самосудом на основании своих обычаев, нередко жестоких и суеверных. Для обвинения монголы признавали необходимым сознание обвиняемого и для этого употребляли пытки и истязания» [Рязановский 1931: 32].
Крупный исследователь монгольской истории Т.Д. Скрынникова в ходе исследования судопроизводства приходит к схожему выводу, что в период Монгольской империи XII–XIII вв. отсутствовали формализованные институты власти вне родоплеменных традиций, и в целом соглашается с мнением В.А. Рязановского, что отправление суда носило характер административной расправы. Она отмечает, что судебная власть выражалась в форме коллективного суда курултая, суда хагана и суда специально назначенных лиц – судей-дзаргучи. При этом последние были характерны для земледельческих территорий [Скрынникова 2002; Крадин, Скрынникова 2006: 414].
Распад монгольской империи привел к децентрализации политической власти. Реальная власть хагана ослабла, в то время как усиливали свое влияние удельные князья и племенная аристократия. Участие государственной власти в правовом регулировании снизилось, и обычное право начало превалировать над законодательством общемонгольского хана. Действие Ясы как общемонгольского правового свода перестало быть обязательным вместе с разделом империи монголов, а в выделившихся уделах возобладали местные правовые нормы и традиции. Однако в самой Монголии властные отношения надолго оставались в рамках политических доминант и идеологической конструкции, выстроенной в период Чингисхана. Одним из таковых являлся принцип передачи верховной власти только среди представителей так называемого золотого рода. Им по-прежнему принадлежала функция суда и посредничества при решении конфликтных ситуаций. Отдельные положения Ясы продолжали оказывать «влияние на законодательство отдельных монгольских племен зна- чительное время спустя после распадения великого монгольского государства» [Рязановский 1931: 14].
Не исключено, что в условиях политической раздробленности и междоусобных конфликтов имело место возобновление института кровной и некровной мести. Как известно, кровная месть имеет способность к регенерации в самых разнообразных социальных условиях на разных уровнях общественного развития [Мальцев 2012: 713].
В монгольской летописи Алтан тобчи, датируемой XVII в., содержится один примечательный эпизод, на который обратил внимание еще И.А. Малиновский и приводил его в качестве факта существования обычая мести в монгольском обществе. Ниже мы приводим данный эпизод в редакции ученого.
«Бэгэрсэнь тайши онигутский приготовлял кушанье для пира и налил себе бульону, покрытого пузырями жира, и, простуживая его, пил. В это время Сайн-Тулэгэн, сын Туншина, из рода Монголчинов, будучи одержим жаждою, просил его налить ему этого бульона; но Бэгэрсэн налил ему не простуженного, а горячего; тот, не зная, что бульон горячий, вдруг хватил и ожегся. Тулэгэнь подумал: если проглотить, то сердце загорится, если же выбросить, – то стыдно; таким образом, держа его во рту, понемногу вдыхая воздух, простудил, но все-таки кожица неба слезла. Тулэгэнь сказал: “Не забуду этого и буду мстить до конца жизни; когда-нибудь придет время мщения”» [Малиновский 1909: 201].
Данный эпизод из Алтан-Тобчи может быть охарактеризован не более как обыкновенная бытовая ссора. Однако в то же время он может раскрыть нам определенные модели поведения, которые, в свою очередь, были бы полезны при интерпретации общественных отношений в целом в постимперский период. Во-первых, привлекает внимание то, что Тулэгэнь решил затаить свою обиду, а не высказать ее сразу же. Думается, что в присутствии большого числа людей на пиру попытка выплеснуть бульон изо рта на землю была бы воспринята как явная демонстрация неуважения, которая вызвала бы ответную реакцию в защиту чести гостеприимного хозяина. Была ли подача горячего бульона намеренной, или это было сделано без умысла, мы не знаем. В то же время решение Тулэгэня оставить это действие без ответа говорит о том, что он не был уверен в своих силах, чтобы открыто призвать к ответу за пренебрежительное отношение к его просьбе. Скорее всего он подвергался риску столкнуться с неким коллективом, который бы в тот момент сформировался на основе родственных или иных связей и встал бы на сторону Бэгэрсэня. Думается, что их было достаточно, чтобы Тулэгэнь решил сдержать себя и отложить акт мщения до более подходящего случая. Но акт мщения должен сопровождаться его объявлением, и окружающие должны знать причины его поступка. Бессмысленная жестокость и убийство могли вызвать порицание со стороны общества.
Алтан-Тобчи и другие монгольские летописи XVII в. (Шара Туджи, Эрдэнийн Тобчи, Асрагч нэртэийн туух) содержат и другие примеры мстительного поведения в ответ на нанесенную обиду. Однако применительно к монгольскому обществу XVII–XVIII вв. правовые памятники (Восемнадцать степных законов, Их Цааз, Халха Джирум) уже исключают месть как форму социальной защиты и справедливого наказания, заменяя ее на композицию. Это, несомненно, показывает, что к этому времени монгольское общество прошло путь от частного самоуправства к организации правосудия государством.
Известный монголовед А.Д. Насилов, основываясь на анализе отдельных статей правового памятника «Восемнадцать степных законов», заключает, что
«кровная месть и талион были пройденным этапом в правотворчестве халхас- цев в начале XVII столетия» [Насилов 2002: 86]. В тексте памятника (Великий закон года обезьяны) прямо указано, что «если кто убьет человека, взять [с того] триста тридцать андзу. [Убитого] возместить верблюдом» [Насилов 2002: 53]. Андза приравнивалась к определенному числу голов скота, поскольку он был главной ценностью в кочевом обществе и обладал большой меновой стои- мостью. А.Д. Насилов предполагает, андза имела общепризнанный, стандартный размер, поскольку при определении наказания она выражалась количественно. Однако для конкретизации размера андзы отсутствуют необходимые данные [Насилов 2002: 106].
Один из выдающихся исследователей монгольских письменных памятников Ц. Жамцарано пишет, что понятие «андза» «является старинным техническим выражением в древнем законодательстве монголов (“Халха Джирум” и “Улан Хацарто”), употребляется для передачи понятия, близкого к неустойке, но применительно к нормам обычного права» [Жамцарано, Турунов 1921: 9].
Особенностью монгольского законодательства является то, что субъектом правотворчества выступали съезды монгольской знати, на которых принимались и утверждались законы. Слабость центральной власти и фактическое равенство владетельных князей выразилось в том, что принимаемые законы были результатом выражения общего мнения и строились на договорной основе (договорное право). В этом случае сразу же встает вопрос о механизме соблюдения и исполнения принятых законов. Поскольку развитого судебного аппарата не существовало, а судебная функция совмещалась с исполнительной в одном лице, то неизбежно возникают вопросы о том, насколько обязательными были принятые нормы и являлись ли они руководством при отправле- нии суда.
Крупный специалист по праву тюрко-монгольских народов Р.Ю. Почекаев отмечает, что в положениях «Восемнадцати степных законов» отсутствуют сведения об организации и деятельности органов, осуществлявших правосудие. Данный факт объясняется, по мнению ученого, двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что законы принимались в ходе разных съездов, состав которых не был одинаков и, соответственно, в разное время. Не принявшие участие в съезде монгольские князья могли не брать обязательства по их соблюдению. Во-вторых, в условиях феодальной раздробленности «четко определить статус тех или иных властных структур было попросту невозможно, а властные (и, соответственно, судебные) полномочия в своих владениях осуществляли представители феодальной знати» [Почекаев 2021а: 14]. Основываясь на материалах русской дипломатической документации, Почекаев делает вывод, что из-за слабости власти правителей и их постоянной борьбы между собой эффективное исполнение законов вряд ли было возможно. XVII в. в монгольской истории «стал временем правовой неопределенности, выходом из которой можно назвать признание сюзеренитета империи Цин в ожидании наступления некоторой упорядоченности в политической и правовой сферах» [Почекаев 2021б].
Дальнейший этап поступательного развития правовой системы связан с мон-голо-ойратским уложением «Их Цааз», принятым в 1640 г. собранием князей Джунгарии и Северной Монголии (Халха-Монголии). В нем мы находим, что государство уже выступает как полноценный носитель судебных полномочий, ограничивая случаи самоуправства и осуществляя исполнение судебных решений с помощью аппарата принуждения [Рязановский 1931; Почекаев 2021а].
Одним из дискутируемых вопросов в кочевниковедении является характер властных отношений в кочевом обществе. С точки зрения современной политической антропологии большинство кочевых империй в своем устройстве не имели развитого бюрократического аппарата, который был характерен для обществ, управляемых государством. По ряду других признаков, таких как система налогообложения, отделение публичных институтов власти от общества, наличие аппарата принуждения и эффективного судебного производства, видно, что полнота их выраженности и потребность в них в кочевом обществе не находят соответствия уровню сложности общественных отношений и степени социальной дифференциации [Крадин 1992; 2007; Крадин, Скрынникова 2006; Хазанов 2008; Васютин 2020]. Родоплеменная структура оставалась монопольной формой организации кочевников, не преодоленной даже в крупных кочевых империях. Лишь в условиях стороннего воздействия в ходе тесной интеграции кочевников с оседло-земледельческим населением родовая общность и племенная идентичность уступали место другим формам социальных связей.
Монгольские ханства XVI–XVII вв., представляя собой образец типичных кочевых политий, социально-политическая вариативность которых лимитировались узкой базой кочевой экономики, в то же время демонстрировали определенные источники внутреннего развития, основанные на общественных и политических противоречиях, решение которых требовало политической солидарности и создания общего законодательства. Это выразилось в форми- ровании единого правового поля, поддерживаемого не столько централизованной властью, сколько коллективным консенсусом влиятельных политических сил. А.Д. Насилов даже отмечает, что, «вопреки общепризнанному мнению о существовании глубокой необратимой раздробленности Халхи в начале XVII в., “Восемнадцать степных законов” представляют ее не как расползающееся аморфное образование, состоящее из аймаков и ханств, а как единое государство» [Насилов 2002: 104]. Т.Д. Скрынникова, описывая политическую ситуацию в Халхе XVI–XVII вв., говорит о том, что ее определяло противоборство центробежных и централистских сил, что отразилось и в направленности принимаемых законов [Скрынникова 1986].
Тем не менее в условиях борьбы противоположных сил политической воли оказалось достаточно, чтобы обычное право и самоуправство, в т.ч. в виде кровной мести, уступило место правосудию на основе законов. Монгольское право XVI–XVIII вв. вполне однозначно устанавливает порядок материального возмещения в виде штрафа – андзы.
Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Историческое пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государства» № 121031000241-1).
Список литературы Об институте мести и характере власти в монгольском обществе
- Васютин С.А. 2020. Кочевники Внутренней Азии VI — начала XII века в глобальной истории. Иркутск: Оттиск. 353 с.
- Вернадский Г.В. 1997. История России: монголы и Русь. М.; Тверь: Леан, Аграф. 476 с.
- Владимирцов Б.Я. 1934. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л.: Изд-во АН СССР. 223 с.
- Жамцарано Ц., Турунов А. 1921. Обозрение памятников писаного права монгольских племен. — Сборник трудов профессоров и преподавателей государственного Иркутского университета. Вып. 1. С. 1-13.
- Крадин Н.Н. 1992. Кочевые общества (проблемы формационной характеристики). Владивосток: Дальнаука. 240 с.
- Крадин Н.Н. 2007. Кочевники Евразии. Алматы: Дайк-пресс. 416 с.
- Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. 2006. Империя Чингисхана. М.: Восточная литература. 557 с.
- Малиновский И.А. 1909. Начальная страница из истории смертной казни (кровавая месть). — Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина (Записки Русского географического общества: по Отделению этнографии (ред. А.Д. Руднев). Т. XXXIVC. СПб. С. 189-210.
- Мальцев Г.В. 2012. Месть и возмездие в древнем праве. М.: Норма; Инфра-М. 736 с.
- Насилов А.Д. 2002. Восемнадцать степных законов: Памятник монгольского права XVI—XVII вв. (монг. текст, транслитерация монг. текста; перевод монг. текста, комм. и иссл. А.Д. Насилова). СПб: Петербургское Востоковедение. 160 с.
- Почекаев Р.Ю. 2021а. Суд и процесс в памятниках традиционного монгольского права XVI-XVIII вв. (опыт сравнительно-правового анализа). -Монголоведение. № 13(1). С. 8-21.
- Почекаев Р.Ю. 2021б. Государство и право в Центральной Азии глазами российских и западных путешественников. Монголия XVII — начала XX века. М.: ИД ВШЭ. 424 с.
- Рязановский В.А. 1931. Монгольское право (преимущественно обычное). Харбин: Тип. Н.Е. Чинарева. 306 с.
- Скрынникова Т.Д. 1986. О политической организации Халхи: Вторая половина XVI-XVIII вв. - Mongolica: Памяти акад. Б.Я. Владимирцова. М. С. 201212.
- Скрынникова Т.Д. 2002. Судопроизводство в Монгольской империи. - Altaica VII: сборник статей и материалов ИВ РАН. С. 163-174.
- Хазанов А.М. 2008. Кочевники и внешний мир. СПб: Изд-во СПбГУ. 512 с. Ratchnevsky P. 1983. Cinggis-khan. Sein Leben und Wirken. Wiesbaden. 207 p.