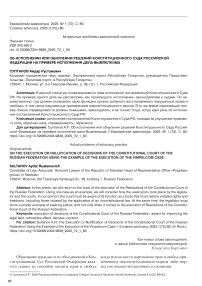Об исполнении или обнулении решений Конституционного суда Российской Федерации на примере исполнения дела Вымпелкома
Автор: Султанов А.Р.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье мы снова вернемся к теме исполнения постановлений Конституционного Суда РФ. На примере одного дела мы рассмотрим, как происходило «исполнение» законодателем и судами. По нашему мнению, суд должен осознавать свою функцию органа, должного восстанавливать нарушенные права и свободы, в том числе нарушенные применением неконституционного закона. В то же время надлежащий пример поиска справедливости должен показывать законодатель, и не только тогда, когда идет речь об исполнении постановлений Конституционного Суда РФ.
Исполнение постановлений конституционного суда рф, награда за улучшение правового поля, обратная сила, справедливость, пересмотр
Короткий адрес: https://sciup.org/140310553
IDR: 140310553 | УДК: 342.565.2 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_72_1_80
Текст научной статьи Об исполнении или обнулении решений Конституционного суда Российской Федерации на примере исполнения дела Вымпелкома
Обращение граждан и их объединений в Конституционный Суд Российской Федерации является одним из способов защиты прав и свобод,
Три новых слова законодателя, и целые библиотеки становятся макулатурой.
Юлиус фон Кирхманн когда имело место нарушение прав и свобод применением неконституционной нормы либо нормы в ее неконституционном толковании.
Соответственно, ситуации с попытками неисполнения постановлений Конституционного Суда РФ [1] порой подрывают доверие к государству даже сильнее, нежели игнорирование норм Конституции РФ рядовым правоприменителем [2].
По всей видимости, законные ожидания к исполнению постановлений Конституционного Суда РФ выше, нежели к действиям правоприменителя, от которого, к сожалению, мы не ждем уважения и применения норм Конституции РФ. Должны бы ждать, но уже не ждем… К сожалению, когда в судах ординарных инстанций участники спора начинают ссылаться на Конституцию РФ, то это порой воспринимается как исчерпание аргументов. Хотя, казалось бы, аргумент, основанный на Конституции РФ, должен быть наиболее сильным в связи с тем, что нормы Конституции РФ обладают прямым действием, и все правовые акты должны соответствовать положениям Конституции РФ.
В данной статье мы рассмотрим подробно лишь одно конкретное дело, поскольку в нем проявляются различные аспекты исполнения Конституционного Суда РФ, в том числе и те, которые являются необычными и ранее нами не рассмотрены [3].
Прежде чем анализировать исполнение Постановления Конституционного Суда [4], кратко опишем его. Комментируя [5] Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2023 № 41-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 2 статьи 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации», мы сочли необходимым подчеркнуть, что Конституционный Суд РФ рассмотрел «обнуление сроков для проверки» в качестве ограничения конституционных прав, указав: «исчисление двухлетнего срока, в течение которого может быть принято решение о проведении проверки контролируемой сделки, со дня получения уточненного уведомления налогоплательщика не отвечает конституционным требованиям к ограничению конституционных прав именно на основании федерального закона и о законном характере деятельности налоговых органов (статья 1, часть 1; статья 2; статья 15, часть 2; статья 55, часть 3; статья 57 Конституции Российской Федерации)».
Мы акцентировали на этом внимание, поскольку правоприменительная практика часто вообще не видит никакой проблемы в нарушении сроков государственными органами, суды порой полагают, что сам факт превышения сроков и / или действия государственных органов за пределами сроков вообще не затрагивает прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.
Конституционный Суд РФ отметил, что именно в законодательстве о налогах и сборах должны быть надлежащие критерии выбора начального момента исчисления двухлетнего срока, в течение которого налоговым органом может быть принято решение о проведении проверки контролируемой сделки, что установлено, с одной стороны, в качестве гарантии прав налогоплательщика, а с другой – для определения пределов допускаемого законом ограничения его прав.
Из данных правовых позиций Конституционного Суда РФ со всей очевидность следовало, что сроки проверок в публичном праве являются одновременно гарантиями граждан и их объединений, а также пределами допускаемого законом ограничения их прав.
На наш взгляд, одно осознание этой простой мысли правоприменителями могло бы разрешить большое количество споров с государственными органами, одновременно повысив доверие к государству. Впрочем, наиболее эффективным было осознание этого законодателем, поскольку именно он закрепляет в законе процедуры, сроки, порой не предусматривая никаких последствий за несоблюдение сроков государственными органами, вопреки требованиям должной правовой процедуры. Конституционный Суд РФ предписал законодателю внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, отметив, что законодатель обладает собственной дискрецией в регулировании форм налогового контроля и порядка его осуществления, включая сроки проведения налоговых проверок и правила их исчисления, поскольку при этом гарантируется исполнение обязанностей налогоплательщиков и не создаются условия для нарушения их конституционных прав, но впредь до внесения в Налоговый кодекс РФ предписал применять правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации.
Исполнение Постановления Конституционного Суда РФ законодателем
Надо отметить, что исполнение Постановления Конституционного Суда РФ было осуществлено достаточно быстро. Уже в начале августа 2024 года для публичного обсуждения был размещен законопроект Минфина России об изменениях в Налоговый кодекс РФ, который поражал своей «простотой».
Вместо определения критериев выбора начального момента исчисления двухлетнего срока, в течение которого налоговым органом может быть принято решение о проведении проверки контролируемой сделки, и воплощения в Налоговом кодексе РФ правовых позиций Конституционного Суда РФ в проекте предлагалось просто упразднить двухлетний срок.
Публичное обсуждение законопроекта осуществлялось на страницах журнала «Налоговед». Специалисты в налогообложении отмечали, что в законопроекте «вместо урегулирования ситуации с подачей уточненных уведомлений предлагается продлить общий срок на назначение проверки контролируемых сделок, что противоречит ранее декларированной государством цели снизить избыточные административные процедуры при контроле за трансфертным ценообразованием. Согласно предложению министерства, решение о проведении проверки теперь может быть принято налоговым органом в любой момент. Сохраняется лишь общее ограничение по ее глубине: могут быть проверены контролируемые сделки, совершенные в период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено указанное решение» [6].
К сожалению, критика законопроекта не оказала влияния на его содержание.
В пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменения в статью 105.17 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» говорится, что проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 105.17 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – проект федерального закона) разработан в целях реализации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2023 г. № 41-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 2 статьи 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации».
Проект федерального закона направлен на устранение правовой неопределенности при применении абзаца первого пункта 2 статьи 105.17 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) при исчислении срока принятия федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, решения о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Проектом федерального закона вносится изменение в абзац первый пункта 2 статьи 105.17 Кодекса, согласно которому принятие вышеука- занного решения будет осуществляться без учета даты получения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, уведомления о контролируемых сделках (в том числе уточненного) или извещения территориального налогового органа, направленных в соответствии со статьей 105.16 Кодекса.
Одновременно с этим сохраняется необходимость соблюдения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, требований, установленных абзацем первым пункта 5 статьи 105.17 Кодекса к периодам, за которые может быть проведена проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между признаваемыми взаимозависимыми лицами.
Внесение предлагаемого проектом федерального закона изменения позволит исключить возникновение спорных ситуаций, связанных с исчислением срока принятия федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, решения о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
В результате из п. 2 ст. 105.17 Налогового кодекса РФ было исключено положение: «Такое решение может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения, указанных в пункте 1 настоящей статьи, если иное не предусмотрено настоящей статьей» [7].
Фактически вместо уточнения правила исчисления специальных двухлетних сроков проверки законодатель оставил лишь общий трехлетний срок…
Безусловно, такие изменения исключили возникновение спорных ситуаций, связанных с исчислением срока принятия налоговым органом решения о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Однако улучшило ли это положение налогоплательщика или, наоборот, ухудшило?
Если обратиться к тексту Постановления Конституционного Суда РФ и обратить внимание на то, что сроки – это и гарантии прав налогоплательщика, а также пределы допускаемого законом ограничения его прав, то очевидно, что гарантий стало меньше, их ограничили, а пределы допускаемого законом ограничения прав налогоплательщика увеличились.
Наша Конституция основана на признании естественных прав и свобод человека и может быть «лакмусовой бумажкой» не только при отправлении правосудия, но и при подготовке законов и анализе уже принятых законов.
В частности, законодатель должен учитывать положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, а именно, что ограничение прав и свобод может быть осуществлено «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
В пояснительной записке ни один из вышеуказанных критериев не был указан, равно как и не был соблюден законодателем.
Поэтому, на наш взгляд, можно утверждать, что «исполнение» Постановления Конституционного Суда РФ законодателем было осуществлено с нарушением Конституции РФ.
Исполнение Постановления Конституционного Суда РФ в Арбитражном суде
Обычно в отношении процедуры, применяемой арбитражными судами и судами общей юрисдикции, пересматривающими дело после вынесения постановлений Конституционного Суда РФ, не используется термин «исполнение». На наш взгляд, это отчасти вызвано тем, что в процессуальных кодексах после появления Конституционного Суда РФ не появилось новой процедуры возобновления производства по делу. Вначале использовали процедуру пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, более приспособленную к пересмотру на основании фактических обстоятельств. Позже изменения в процессуальные кодексы и отнесение постановлений Конституционного Суда РФ к новым обстоятельствам, допускающим пересмотр, не изменили процедуры, она осталась прежней.
На наш взгляд, это было не самым правильным действием, хотя и самым простым. О негативных последствиях такого подхода мы напишем чуть ниже, а пока напомним, что именно в резолютивной части постановлений Конституционного Суда РФ содержатся указания о пересмотре. В деле, которое мы взяли в качестве примера, в резолютивной части было указано: «Судебные решения по делу публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий».
Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.11.2023 заявление ПАО «Вымпел-Коммуни-кации» о пересмотре решения Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2021 по делу № А40-36350/21-140-1024 по вновь открывшимся обсто- ятельствам удовлетворено, решение Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2021 отменено, дело назначено к повторному рассмотрению.
При новом рассмотрении дела Арбитражный суд г. Москвы вновь отказал заявителю, причем ряд его доводов вызвал огромное удивление:
«ФНС России при заполнении формы решения о назначении проверки руководствовалась требованиями действующего на тот период законодательства. В этой связи Суд не принимает доводы Заявителя о том, что ФНС России, вынося решение о назначении проверки 29.12.2020, должна была привести в нем обоснование значимости сведений об этой или иных сделках, содержащихся в уточненном уведомлении, для целей принятия соответствующего решения, так как законодательство на тот момент не содержало указанного требования, Постановление от 14.07.2023 № 41-П не было принято.
При этом Суд учитывает, что в соответствии с пунктом 4 резолютивной части Постановления № 41-П оно вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 18.07.2023» [8].
То есть фактически суд решил, что Постановление Конституционного Суда РФ не обладает обратной силой, и его действие может быть обращено лишь на будущее. Суд, по всей видимости, не понял, что такое толкование лишает любого практического смысла обращения в Конституционный Суд РФ, лишает возможности обращения в Конституционный Суд РФ для защиты нарушенных прав.
На наш взгляд, нельзя лишать лицо, инициировавшее производство в Конституционном Суде РФ, награды, обещанной законодателем в ст. 100 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», за правовую активность в виде возможности пересмотра дела. Ведь благодаря этим лицам стало возможным исключение из правового поля России применения норм в противоречии с конституционно-правовым смыслом [1].
Как указал Конституционный Суд РФ в Определении № 556-О-Р, «иное – вопреки требованиям и предназначению статьи 125 (части 4 и 6) Конституции Российской Федерации, а также статьи 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» – приводило бы к невозможности исполнения решения Конституционного Суда Российской Федерации и потому лишало бы смысла обращение заявителей в Конституционный Суд Российской Федерации, делая иллюзорным предоставленный гражданам и их объединениям способ защиты своих прав с помощью конституционного правосудия».
Само обращение в Конституционный Суд РФ является следствием нарушения конституционных прав и попыткой их защитить [9].
Попытка Арбитражного суда оправдать судебные ошибки, допущенные при первоначальном рассмотрении дела, тем, что положения Постановления №41-П не могли быть учтены налоговым органом в 2020 году, содержит в себе отрицание обязанности налоговых органов и арбитражных судов толковать положения Налогового кодекса РФ с точки зрения смысла и целей гарантируемых Конституцией основных прав и свобод. Из данной обязанности следует применение норм любого закона в строгом соответствии с толкованием, вытекающим из Конституции РФ, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами.
Само по себе определение законодателем Постановления Конституционного Суда РФ в качестве нового обстоятельства не должно вводить в заблуждение: не Конституционный Суд РФ создает неконституционность нормы, норма является неконституционной уже в момент ее принятия.
Конституционный Суд РФ лишь выявляет не-конституционность нормы, равно как приговор суда устанавливает преступные деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении дела. В приговоре не создается преступность деяния, а лишь устанавливается его совершение. Так и в Постановлении Конституционного Суда РФ лишь фиксируется неконституционность нормы или толкования, которая существовала и до обращения в Конституционный Суд РФ.
При этом Арбитражный суд г. Москвы создал видимость исполнения Постановления Конституционного Суда РФ, ведь прежнее решение было отменено, да и в новом решении воспроизведены положения п. 3 резолютивной части Постановления от 14.07.2023 № 41-П, которой было предусмотрено, что судебные решения по делу Публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуника-ции» подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий.
Игнорирование норм закона и правовых позиций Конституционного Суда РФ не является предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, который полагает, что проверка правильности применения норм права с учетом фактических обстоятельств конкретных дел, предполагающая их исследование и оценку, не относится к его компетенции.
Не удивительно, что заявитель решил не только обжаловать решение в апелляционном поряд- 84
ке, но и обратиться в Конституционный Суд РФ за разъяснением.
При рассмотрении дела в апелляции было заявлено ходатайство о приостановлении дела до рассмотрения заявления о разъяснении в Конституционном Суде РФ. Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении ходатайства, но ее мотивы достойны того, чтоб их процитировать полностью: «Конституционный Суд РФ в вышеуказанном Постановлении указал на необходимость пересмотра правоприменительных решений по делу заявителя, принятых на основании абзаца 1 пункта 2 статьи 105.17 Налогового кодекса РФ, признанного судом не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой он в системе действующего правового регулирования по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, влечет исчисление предусмотренного им срока на принятие ФНС России решения о проведении проверки контролируемой сделки со дня получения уточненного уведомления в том случае, когда в первоначальном уведомлении были приведены сведения об этой сделке, и налоговый орган в решении не обосновал, что новые содержащиеся в уточненном уведомлении сведения об этой или иных сделках являются значимыми для целей принятия соответствующего решения. Конституционный Суд РФ указал, что впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего Постановления, исчисление срока для назначения проверки в отношении конкретной контролируемой сделки при получении уточненного уведомления налогоплательщика осуществляется в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в указанном Постановлении, с исключением применения абзаца первого пункта 2 статьи 105.17 НК РФ в той мере, в какой он признан не соответствующим Конституции РФ.
Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 № 78-О, юридическим последствием решения Конституционного Суда РФ о признании неконституционными акта или его отдельных положений либо акта или его отдельных положений с учетом смысла, который им придан сложившейся правоприменительной практикой, является утрата ими силы на будущее время. Это означает, что с момента вступления в силу решения Конституционного Суда РФ такие акты не могут применяться и реализовываться каким-либо иным способом. Соответственно, главный принцип действия позиций Конституционного Суда РФ – это действие на будущее время. В то же вре- мя в отношении дел граждан, организаций, обратившихся в Конституционный Суд РФ, его постановление обладает обратной силой, в связи с чем при рассмотрении настоящего дела надлежит руководствоваться правовыми позициями, сформулированными в Постановлении № 41. При ином подходе сам по себе пересмотр ранее принятых решений не имел бы смысла.
В этой связи апелляционный суд не усматривает законных оснований для приостановления производства по настоящему делу ввиду отсутствия неопределенности в вопросе относительно необходимости применения в настоящем деле вышеуказанных позиций, изложенных в Постановлении № 41» [10].
В данном постановлении апелляционной инстанции, на наш взгляд, является также значимой следующая правовая позиция суда:
«…сам факт завершения проверки не отменяет того, что решение о ее назначении за рамками установленного двухлетнего срока, исчисляемого с даты представления первоначального уведомления о контролируемой сделке, повлекло в нарушение требований действующего законодательства избыточное применение в отношении общества мер налогового контроля, в том числе возложение на него дополнительных обязанностей, связанных с выполнением требований налогового органа в рамках проверки, а также нарушение правомерных ожиданий налогоплательщика, который в данном случае обоснованно рассчитывал на неизменность своего правового положения, тогда как по итогам проверки налоговым органом в действиях налогоплательщика были установлены нарушения законодательства о налогах и сборах».
Апелляционный суд в своем постановлении также сделал ссылку на правовые позиции, изложенные в Определении СЭКС ВС РФ от 16.03.2018 № 305-КГ17-19973 по похожему спору. В Определении Верховного Суда РФ, в частности, было указано:
«В силу принципа правовой определенности, выступающего одним из элементов правового государства (часть 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации), и с учетом конституционных гарантий свободы экономической деятельности, охраны частной собственности, запрета несоразмерного ограничения прав частных лиц (статьи 34 и 35, часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации), налогоплательщики должны иметь возможность в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, прежде всего, в том, что касается размера налоговой обязанности, полноты и правильности ее исполнения.
В связи с этим судебная практика исходит из недопустимости избыточного или не ограниченного по продолжительности применения мер налогового контроля в отношении налогоплательщиков, что по существу означало бы придание дискриминационного характера налоговому администрированию и приводило бы к препятствованию предпринимательской деятельности (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 14-П и Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.03.2008 № 13084/07)».
В результате апелляционная инстанция не только отменила решение Арбитражного суда города Москвы от 07.02.2024 по делу № А40-36350/21 и признала недействительным решение ФНС от 29.12.2020 № 13-1-09/0166дсп, но и восстановила веру в эффективность обращения в Конституционный Суд РФ.
Это было очень важно, поскольку игнорирование норм закона и правовых позиций Конституционного Суда РФ не является предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, который полагает, что проверка правильности применения норм права с учетом фактических обстоятельств конкретных дел, предполагающая их исследование и оценку, не относится к его компетенции [11]. Неисполнение Постановления Конституционного Суда РФ также не является основанием для разъяснения решения Конституционного Суда РФ (Конституционный Суд РФ не усмотрел никакой неопределенности и отказал в рассмотрении заявления о разъяснении: Определение Конституционного Суда РФ от 30.05.2024 № 1187-О-Р «Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» о разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2023 года № 41-Пф»).
Хотя налоговая служба не согласилась с постановлением апелляции, ее жалобы были отклонены вышестоящими инстанциями.
Одну из своих статей мы назвали «Исполнение Постановления Конституционного Суда РФ – зеркало справедливости судебной системы» [2]. В ней мы напоминали, что в начале судебной реформы в России были правильно расставлены акценты: «Благодаря судебному процессу закон применяется не механически, на манер клейма, а по правде и по совести. Суд не только устанавливает, но очеловечивает истину» [12]. Эти основы не должны быть забыты, и суд должен осознавать свою функцию органа, должного восстанавливать нарушенные права применением неконституционного закона. Такое осознание, по нашему мнению, поможет ему более правильно разрешать вопросы, связанные с толкованием законов в сторону их более справедливого правоприменения, а не отписывать судебные решения, бездумно компилируя судебные акты из различных клише [13]. В данном деле благодаря апелляционной инстанции права заявителя, нарушенные применением неконституционной нормы, были восстановлены. Однако надлежащий пример поиска справедливости должен показывать прежде всего законодатель, и не только тогда, когда идет речь об исполнении постановлений Конституционного Суда РФ. Ведь именно при формулировании норм законов закладываются стандарты уважения к правам личности и гражданина.