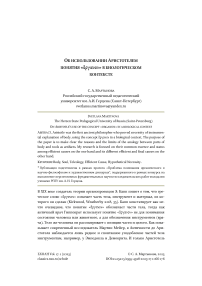Об использовании Аристотелем понятия «organon» в биологическом контексте
Автор: Мартынова С.А.
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.17, 2023 года.
Бесплатный доступ
Аристотель был первым античным философом, который предложил и обосновал инструментальное понимание тела, используя понятие ὄργανον в биологическом контексте. Цель статьи состоит в том, чтобы прояснить, в чем причины уподобления Аристотелем частей тела созданным мастером инструментам, и почему, согласно философу, невозможно их полностью отождествить друг с другом. В центре внимания находятся прояснение общих для них сущности и статуса среди действующих причин, а также различий, касающихся целей функционирования и того, что именно выступает их движущей причиной.
Тело, душа, движущая причина, телеология, гипотетическая необходимость
Короткий адрес: https://sciup.org/147241556
IDR: 147241556 | DOI: 10.25205/1995-4328-2023-17-1-166-176
Текст научной статьи Об использовании Аристотелем понятия «organon» в биологическом контексте
* Публикация подготовлена в рамках проекта «Проблема понимания органического в научно-философском и художественном дискурсах", поддержанного в рамках конкурса на выполнение перспективных фундаментальных научно-исследовательских работ молодыми учеными РГПУ им. А. И. Герцена.
В XIX веке создатель теории органопроекции Э. Капп пишет о том, что греческое слово «ὄργανον» означает часть тела, инструмент и материал, из которого он сделан (Kirkwood, Weatherby 2018, 35). Капп констатирует как нечто очевидное, что понятие «ὄργανον» обозначает части тела, тогда как античный врач Гиппократ использует понятие «ὄργανον» не для понимания состояния человека или животного, а для обозначения инструментов (врача). Тело же человека он рассматривает с позиции части и целого. Как показывает современный исследователь Мартин Мейер, в Античности до Аристотеля наблюдается лишь редкое и спонтанное уподобление частей тела инструментам, например, у Эмпедокла и Демокрита. И только Аристотель
перенес в биологический контекст понятие «ὄργανον» таким образом, что сделал его необходимым для понимания живого существа – развивающегося, растущего, воспроизводящего себя, умирающего, обладающего душой и включенного в жизненный континуум (Meyer 2016, 37,39).
Исследования употребления Аристотелем понятия «ὄργανον» в биологическом контексте фиксируют произошедший в античности существенный сдвиг в понимании тела, но оставляют не решенными по меньшей мере два взаимосвязанных вопроса. Первый вопрос – почему Аристотель мыслит части тела как инструменты, и, соответственно, называет их органами? Поскольку я предполагаю, что это происходит в результате уподобления их инструментам, которые создает и использует мастер, то возникает второй вопрос – каковы границы этой аналогии, т.е. каковы различия, которые не позволяют отождествлять части тела и созданные человеком инструменты.
В исследовательской литературе основания и границы аналогии между органами как, скажем так, «естественными» инструментами и орудиями человека как «искусственными» инструментами (artifacts) в учении Аристотеля подробно не изучаются, хотя и отмечается, что их вместе характеризует работа, функционирование (Schiefsky 2007), и что они действуют в интересах основной движущей причины (Des Chene 2001). Именно эти характеристики как взаимодополняющие необходимо исследовать в качестве основания аналогии. В исследовательской литературе также есть указания на два различия между частями тела и созданными мастером орудиями. Первое относится к движущей причине, второе – к материальной организации ради цели – гипотетической необходимости. Относительно первого выделенного различия задача состоит в том, чтобы прояснить, каким образом понимание Аристотелем не только различной, но и единой для «естественных» и «искусственных» инструментов движущей причины задает границы аналогии. Второе различие я помещаю в более широкий контекст: выделяю различие по цели и дополняю его концепцией «гипотетической необходимости», т.е. анализирую цели, которые определяют ту или иную материальную организацию частей тела и созданных человеком инструментов.
-
I. Части тела как инструменты
Что такое инструменты по Аристотелю? В работе «Политика» Аристотель указывает на то, что инструмент существует для того, чтобы работа была доведена до конца, а также уточняет, что инструмент не может выполнять свойственную ему работу сам ( Политика 1253b25–1254a; пер. С.А. Жебелева). Поскольку Аристотель выделяет среди движущих причин основную и ин-
струментальную, то в соответствии с характеристикой последней можно полагать, что атрибутом любого инструмента является то, что он действует как подчиненный основной причине, т.е. от ее «имени» и в ее интересах (Des Chene 2001, 89).
Для Аристотеля как и для его предшественников инструментами являются, прежде всего, созданные мастером орудия. Исходя из постулирования философом 4 причин – виновников бытия вещи ( Метафизика 1013a25–1013b; пер. М.И. Иткина) – о созданном мастером инструменте можно сказать следующее. Материальной причиной инструмента является то, из чего оно сделано (железо, дерево и т.д.). Конечной причиной является его продуктивная деятельность, например, в случае топора – что-то разрубить. Формальной причиной (сущностью) является бытие топора, его способность рубить определенным способом. Движущей причиной могут быть: человек, который создает топор, человек, который рубит, само искусство владения топором и т.д.
О частях тела как инструментах Аристотель говорит в работе «Метеоро-логика», разделяя подобочастные (гомогенные) тела и более сложные образования ( Метеорологика 389b25–390b; пер. И.В. Брагинской). Подобочаст-ные состоят из элементов и являются материей для более сложных образований. Существование подобочастных тел целесообразно, но понять в чем именно состоит их цель трудно, поскольку в них много материи, например, в мясе или костях. Понять цель более сложных образований легче, т.к. можно установить их сущность, т.е. определить в них cоотношение страдательной и действительной способностей. Именно поэтому более сложные образования (руку, глаз человека) можно сравнивать с орудиями, которые сделал человек для достижения определенной цели. Например, подобно тому, как пила пилит для создания стола, глаз в теле существует для того, чтобы видеть.
Здесь же Аристотель делает еще одно существенное замечание. Он поясняет, что происходит, если части тела и созданные человеком орудия перестают быть такими, какими они должны быть, т.е. утрачивают свою сущность. С позиции Аристотеля, если части тела и созданные мастером орудия сохраняют свой привычный облик, но перестают выполнять свойственное им дело, то они превращаются только в свои имена. Так не видящий глаз или пила из дерева не таковы, какие они должны быть по своей сущности, но существуют только по имени. Получается, что и для частей тела, и для созданных человеком орудий невозможность функционирования с определенной целью, т.е. утрата общей для них сущности, имеет одинаковые последствия.
Определение как созданных, так и не созданных человеком инструментов в качестве функционирующих для достижения цели подтверждается в работе «О душе», где Аристотель противопоставляет существование в соответствии с сущностью и существование только по имени, а также приводит в качестве примеров то, что утратило сущность ( О душе 412b10–412b25б; пер. М.И. Иткина). При этом Аристотель в этом фрагменте расширяет мыслимое по аналогии – исследует не только отдельные части тела и орудия мастера по аналогии друг с другом, но и их вместе по аналогии с организованным телом. Аристотель указывает, что сущностью организованного тела является душа. Если бы вместо организованного тела был бы топор/глаз, то его сущностью была бы рубка/зрение, и она была бы его душой. При использовании такой аналогии может возникнуть вопрос – зачем она используется, если способность топора/глаза не может быть обозначена душой.1 Согласно Аристотелю естественные тела существуют ради души ( О душе 415b15– 415b20; пер. М.И. Иткина), значит, философ в этом фрагменте подчеркивает, что и организованное тело, и его части, и созданные мастером орудия обязательно функционируют для цели, и именно поэтому их можно назвать инструментами.
Исходя из этих рассмотренных фрагментов, можно заключить, что перенос Аристотелем понятия ὄργανον в биологический контекст основан на признании общего для всех инструментов функционирования для достижения определенной цели. Поскольку мы сказали, что их неотъемлемым признаком является то, что они действует как подчиненные основной причине, т.е. от ее «имени» и в ее интересах, то остается еще прояснить, каким образом части тела как инструменты действуют в интересах движущей причины. Деннис Дез Чен с ссылкой на Франсиско Суареса следующим образом иллюстрирует это утверждение. Он пишет, что «правильное действие сердца заключается в нагревании крови; питание и рост, возникающие в результате движения крови, являются действиями души или ее сил, которые таким образом являются основными причинами питания и роста» (Des Chene 2001, 92). Безусловно, можно говорить не только об инструментах растительной души, но и животной, и разумной. О чем же свидетельствует приве- денный пример? Из него становится понятно, что душа как движущая причина использует части тела в качестве инструментальной причины для обеспечения своих интересов, т.е. для того, чтобы были реализованы ее способности. Следовательно, обозначение частей тела в качестве инструментов важно не только потому, что они функционируют для цели, но и потому, что они действуют в интересах основной причины, которую в перспективе понимания живого существа Аристотель мыслит как душу.
-
II. Отличие частей тела и инструментов по движущей причине
Теперь о различиях, которые не позволяют отождествить части тела и созданные человеком инструменты друг с другом. Вначале разберем первое различие, а именно, что приводит в действие созданные человеком орудия и части тела, т.е. какова их движущая причина. В критической литературе утверждается, что инструменты по Аристотелю не приводят сами себя в движение и поэтому нуждаются в мастере, который владеет определенным искусством, а живые существа обладают принципом собственного создания и изменения, т.е. сами себя приводят в движение (Ginsborg 2004, 56–57).
Понимание Аристотелем того, что живые существа сами себя приводят в движение достаточно проблематично. В ряде работ Аристотель дает частичные и поэтому на первый взгляд противоречивые объяснения этого положения. В трактате «О душе» Аристотель указывает, что живые существа в себе имеют начало движения и покоя ( О душе 412b10–412b25; пер. М.И. Ит-кина), и что их организованным телом движет душа ( О душе 406b25; 408a30 пер. М.И. Иткина).2 В «Метафизике» Аристотель говорит, что семя движет возникающее естественным образом ( Метафизика, 1034а30; пер. М.И. Ит-кина). При этом то, что возникает под воздействием семени, не есть то, что возникает само собою (например, здоровье). Рассматриваемый отдельно этот фрагмент ставит под сомнение утверждение о способности живых существ создавать самих себя, поскольку возникающее через семя не есть то, что «возникает само собою». Более того, этот фрагмент вступает в противоречие с теми местами трактата «О душе» ( О душе 412b10–412b25; пер. М.И. Иткина), в которых утверждается, что организованным телом движет душа.
Более полное объяснение того, как семя обеспечивает способность живых существ приводить себя в движение можно найти в трактате «О возникновении животных». Аристотель пишет, что «искусство является началом и формой для того, что возникает, но только в другом, а движение природы в нем самом, получая начало от другого природного начала, имеющего в себе эту форму в действительности», в природе «движение идет от породившего существующего в действительности» ( О возникновении животных 734 b–735а; пер. В.П. Карпова). Речь идет о том, что, например, возникновение дома или топора всегда имеет источником движения иное себе (план мастера и его действия). Движущей же причиной растений, животных, человека и их органов только вначале является другое природное начало, т.е. тот, кто порождает и в котором содержится форма (сущность) порожденного. Впоследствии живое существо приводится в движение семенем и в результате движение природы находится в том, что возникает. Исходя из того, что написано в ряде других фрагментов «О возникновении животных» вырисовывается такая картина. От родителей к зародышу передается семя. Семя по Аристотелю принадлежит мужчине, оно активное и выступает формальной причиной живого существа. Женщина обладает пассивной материей, которая выступает его материальной причиной. Мужское семя подобно плотнику оформляет материю, принадлежащую женщине, дает начало развитию зародыша и, таким образом, семя выступает своеобразным триггером, запускающим процесс развития (именно в этом смысле живое существо возникает «не само по себе»).
Теперь необходимо прояснить, почему Аристотель в трактате «О душе» говорит, что душа движет. Здесь мне представляется важным различать с одной стороны, приведение в движение материю, запуск развития живого существа и, с другой стороны, движение частей тела. В «О возникновении животных» Аристотель указывает, что вместе с семенем передается душа (за исключением разумной) (О возникновении животных 734 b, 736 а, 736 b; пер. В.П. Карпова). Как поясняет Андрей Даровских, из соединения формы и материи образуется зародыш живого существа (энергия), который движется вегетативной душой, и с помощью которой у зародыша появляются первые органы (Darovskikh 2017, 106). Семя является триггером, запускающим процесс развития живого существа, а душа – движущей причиной частей тела. Она передается через семя или возникает божественным образом и формирует, а также движет органы в соответствии с тем, какая она есть (растительная, животная). Поскольку Аристотель наряду с тем, что определяет душу как энтелехию живого тела, понимает ее как набор способностей, то можно говорить о том, что органы зародыша формируются и приводятся в движение за счет знания и имеющихся способностей.
Работа «О возникновении животных», таким образом, демонстрирует, что создание и приведение в движение тела живых существ посредством семени и души отличается от приведения в движение инструментов мастером, который их создает и ими орудует. Отличие состоит в том, что в случае тела живых существ – движение находится в том, что возникает (обеспечивается семенем и душой), и именно в этом смысле живые существа изменяют и производят себя сами.
Достаточно ли указанного различия для того, чтобы провести границы аналогии между частями тела и сделанными человеком инструментами? Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим, что в учении Аристотеля есть сюжеты, которые на первый взгляд нивелируют различие частей тела и инструментов по движущей причине. Речь идет о том, что части тела и созданные мастером инструменты могут иметь общую движущую причину – работу механизма.3 И более того, механическое движение в случае живых существ понимается посредством аналогии с таким же движением у созданных инструментов. Так, например, Аристотель уподобляет самодвижение животных движению, вызываемому рычагом или рулем (Ransom 2017, 144). Соответственно возникает следующий вопрос – можно ли части тела мыслить по аналогии с созданными по механическим законам инструментами, поскольку они в ряде случаев имеют общую движущую причину?
При ответе на этот вопрос важно обратить внимание на то, кто/что и когда, согласно Аристотелю, может двигаться механически. Согласно Аристотелю и созданные человеком орудия, и части тела, и игрушки, и предметы быта в равной степени способны двигаться механистически. При этом они лишь в некоторых случаях могут быть механизмами. Подобно тому, как кровать может сама упасть, и эта ее способность самостоятельно двигаться есть ее случайное свойство, также механическое движение не составляет суть частей тела и созданных мастером орудий, а может быть им присуще только как случайное свойство. Исходя из множественности того, что может быть механизмом, и случайности для тела, а также для орудий двигаться по механическим законам, я полагаю, что правомерно говорить о механизме как общей движущей причине, но нельзя допустить, что она может быть основанием для обозначения частей тела в качестве созданных мастером инструментов.
Из сказанного во второй части исследования можно сделать вывод, что различием между «искусственными» и «естественными» инструментами, которое не позволяет отождествить их друг с другом, является движущая причина. Инструменты двигаются мастером по правилам, которые в его сознании (правила его функционирования). Напротив, для живых существ движущая причина не является внешним, организованное тело обладает «внутренним мастером», который есть вначале семя, а впоследствии душа как знание и определенный набор способностей. В том случае, если речь идет о механически действующих орудиях человека, которым подобна работа органов, то можно говорить об общей движущей причине, при том, что части тела не могут быть обозначены как такие орудия в силу обнаружения этой причины.
-
III. Отличие частей тела от инструментов по цели
Для понимания различия по целям важным является фрагмент из «Метафизики», в котором Аристотель поясняет, что иногда целью является использование способности, иногда – то, что создается. Цель созданного мастером инструмента – доведение работы до конца – постройка дома, цель частей тела – применение способности, например, зрительной способности глаза, что составляет суть видения ( Метафизика , 1050a20–1050b; пер. М.И. Иткина). Из этого положения становится понятно, что существует разница между тем, для какой цели функционируют части тела и созданные человеком орудия. Цель «искусственных» инструментов – в создании иного (статуя), целью телесных органов является выполнение того, что они могут делать без направленности на создание иного как итога этой деятельности.
Помимо того, что взятое в отдельности утверждение Аристотеля определенным образом маркирует границы понимания частей тела и созданных мастером инструментов по аналогии. Это утверждение можно сопоставить с результатами исследований естественной телеологии Аристотеля (прежде всего я имею в виду исследования учения Аристотеля о гипотетической необходимости), и это позволит еще более четко очертить границы аналогии. Каким образом? Обратимся вначале к самому учению.
Учение Аристотеля о «гипотетической необходимости» рассматривается исследователем Джоном Купером как часть естественной телеологии, которая по меркам античности носит революционный характер. Дело в том, что Аристотель совершает переворот, когда в отличие от своих предше- ственников настаивает на телеологическом (с позиции цели) понимании формирования и функционирования живых существ. Исследователь Джон Купер определяет гипотетическую необходимость как выбор необходимого инструмента (органа) или процесса для достижения цели, выбор из ряда возможностей наиболее подходящего для достижения цели (Cooper 1987, 244). Так, например, гипотетически необходимо веко. Оно представляет собой «решение» тела с помощью инструмента защитить глаз, который гипотетически необходимым не является, поскольку составляет часть живого существа и может быть только имеющимся образом и никак иначе. Гипотетически необходима организация материала для появления живого существа. Гипотетически необходима активизация органов при болезни.
Что такое «гипотетическая необходимость» становится более понятным при указании на нее как разновидность материальной необходимости. Материальная необходимость указывает на материальную причину того, что происходит. Именно на ней предшественники Аристотеля настаивали при объяснении живых существ. Например, зуб выпадает, поскольку разрушается материал, из которого он сделан. Гипотетическая необходимость указывает на целевую причину, стремясь к которой в теле происходят те или иные процессы, определенным образом работают органы. По Аристотелю если даже признать, что выпадение зуба материально необходимо, то в первую очередь оно гипотетически необходимо, поскольку, как объясняет Купер, это неотъемлемая часть процесса формирования живого существа, достижения им своей цели. А цель состоит в том, чтобы состояться как тот или иной вид живых существ (растение, животное) по сущности.
С точки зрения нашего исследования наиболее важным в учении о «гипотетической необходимости» является указание на то, что части тела отличаются от инструментов, поскольку управляются гипотетической необходимостью таким образом, что она подчиняет себе материальную необходимость, а инструменты могут быть как гипотетически необходимы (например, топор сделан из меди, или железа для того, чтобы быть тяжелым и рубить), так и только материально необходимы (Cooper 1987, 265, 268, 273). Если к этому положению добавить, что при материальной организации частей тела и инструментов преследуются принципиально различные цели, то получается, что части тела всегда организованы по необходимости, чтобы были использованы их способности. Созданные же человеком инструменты, напротив, не имеют только необходимой организации для создания иного. Различные цели определяют ту, или иную материальную организацию частей тела и созданных мастером инструментов. В соответствии с логикой Аристотеля невозможно помыслить себе пилу, организация материа- ла которой всегда была бы полностью подчинена ее цели – созданию, например, стола. Так, например, зубья пилы покрываются ржавчиной, а деревянные рукоятки гниют даже в том случае, если необходимо завершить создание стола. В тоже время доступный во времена Аристотеля нержавеющий металл – золото – слишком редок, тяжел, дорог и мягок для производства большинства инструментов, таких как пилы, топоры. Вместе с этим, в живом существе каждая часть тела организована таким образом, чтобы наилучшим образом использовать ее способность, в более широком плане все организованное тела подчинено тому, чтобы реализовать набор способностей определенного вида живого существа. Так, например, согласно Аристотелю необходимо мыслить веко глаза для сохранения им способности видения, а выпадение зубов как освобождение тела от того, что является непригодным для деятельности живого существа на определенном этапе его развития.
Итак, Аристотель переносит понятие «ὄργανον» в биологический контекст, поскольку полагает, что части тела и созданные человеком инструменты функционируют для цели и действуют в интересах основной движущей причины. Вместе с этим Аристотель фиксирует различия по цели их функционирования и по тому, что выступает их движущей причиной. Выявление этих различий позволяет ему создать концепцию организованного тела, в котором части тела не нуждаются во внешнем мастере, функционируют ради применения их способностей, что, в конечном счете, направлено на реализацию способностей души, и для этого всегда, если есть выбор, они организуются наилучшим образом.
Список литературы Об использовании Аристотелем понятия «organon» в биологическом контексте
- Асмус, В.Ф., ред. (l976). Аристотель. Сочинения в четырех томах. Москва. Т. 1.
- Доватур, А.И., ред. (1983) Аристотель. Сочинения в четырех томах. Москва. Т. 4.
- Карпов, В.П., пер. (1940). Аристотель. О возникновении животных. Москва.
- Рожанский, И.Д., ред. (198l). Аристотель. Сочинения в четырех томах. Москва. Т. 3.
- Cooper, John M. (1987) «Hypothetical necessity and natural teleology», A. Gotthelf and J. G. Lennox, eds. Philosophical Issues in Aristotle's Biology. Cambridge University Press, 243-274.
- Darovskikh, A. (2017) «The power of semen: Aristotle and some Galen's fallacies», ЕХОЛН (Schole) ll.l, 95-115.
- Des Chene, Dennis (200l) Spirits and Clocks: Machine and Organism in Descartes. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Ginsborg, H. (2004) «Two Kinds of Mechanical Inexplicability in Kant and Aristotle», Journal of the History of Philosophy 42 (1), 33-65.
- Kirkwood J.W., Weatherby L., ed. (2018) Ernst Kapp: Elements of Philosophy of Technology. On the Evolutionary History of Culture. London. Minneapolis. University of Minnesota Press.
- Meyer, M. F. (2016). «Organ und Organismus in der aristotelischen Biologie», G. Toepfer, F. Michelini, hg. Organismus. Verlag Karl Alber Freiburg. München, 37-61.
- Ransom, Johnson Monte (2017) «Aristotelian mechanistic explanation», J. Rocca, ed. Teleology in the Ancient World: Philosophical and Medical Approaches. Cambridge University Press, 125-152.
- Schiefsky, Mark J. (2007) «Galen's teleology and functional explanation», D. Sedley, ed. Oxford Studies in Ancient Philosophy 33. Oxford University Press, 369-400.