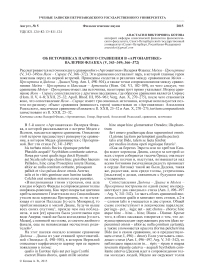Об источниках парного сравнения в «Аргонавтике» Валерия Флакка (V, 343-349; 366-372)
Автор: Котова Анастасия викторовнА.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (150), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются источники двух сравнений из «Аргонавтики» Валерия Флакка: Медея - Прозерпина (V, 343-349) и Ясон - Сириус (V, 366-372). Эти сравнения составляют пару, в которой главные герои показаны перед их первой встречей. Приведены сходства и различия между сравнениями Медея -Прозерпина и Дидона - Диана (Verg. Aen. I, 498-504), а также точки соприкосновения между сравнениями Медея - Прозерпина и Навсикая - Артемида (Hom. Od. VI, 102-109), из чего следует, что сравнение Медея - Прозерпина имеет два источника, на которые поэт прямо указывает. Второе сравнение Ясон - Сириус сопоставляется с другими пассажами, где образом сравнения является Сириус (Hom. Il. V, 4-8; XXII, 25-32; Apoll. Rhod. III, 956-961; Verg. Aen. X, 270-275), после чего становится ясно, что сопоставление Ясон - Сириус имеет три основных источника, которые используются поэтом по-разному: объект сравнения (внешность героя) заимствован из «Аргонавтики» Аполлония Родосского, лексически сравнение сближено с Il. XXII, 25-32 и Aen. X, 270-275, tertium comparationis заимствовано из Il. XXII, 25-32.
Валерий флакк, "аргонавтика", гомер, вергилий, аполлоний родосский, сравнения, источники
Короткий адрес: https://sciup.org/14750929
IDR: 14750929 | УДК: 821.124+82-13+811.124
Текст научной статьи Об источниках парного сравнения в «Аргонавтике» Валерия Флакка (V, 343-349; 366-372)
В 5-й книге «Аргонавтики» Валерия Флак-ка, в которой рассказывается о встрече Медеи с Ясоном, находится парное сравнение. Описанию этой встречи предшествует развернутое сравнение, в котором Медея сравнивается с Прозерпиной. Вот эти стихи (V, 341–349)1:
his turbata minis fluvios ripamque petebat Phasidis aequali2 Scythidum comitante caterva. florea per verni qualis iuga duxit Hymetti aut Sicula sub rupe choros hinc gressibus haerens Pallados, hinc carae Proserpina iuncta Dianae, altior ac nulla comitum certante, priusquam palluit et viso pulsus decor omnis Averno;
talis et in vittis geminae cum lumine taedae Colchis erat nondum miseros exosa parentes.
«Взволнованная этими угрозами, она шла к водам и берегу Фасиды в сопровождении толпы скифянок-ровесниц. Как через покрытые цветами хребты весеннего Гиметта или под Сицилийским утесом вела хороводы Прозерпина, то не отстающая от шагов Паллады [то есть Минервы], то приблизившаяся к милой Диане, будучи выше всех своих спутниц3, прежде чем она побледнела, и вся [ее] красота была уничтожена при виде Аверна; такой же была колхидянка [то есть Медея], с повязкой на голове, со светом двойного факела, еще не ненавидящая несчастных роди-телей»4.
На этот пассаж оказало влияние сравнение Дидона – Диана из уже ставшей хрестоматийной «Энеиды» (I, 498–504), в котором Вергилий описывает карфагенскую царицу при ее первом появлении в поэме:
qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi exercet Diana choros, quam mille secutae
hinc atque hinc glomerantur Oreades; illa phare-tram fert umero gradiensque deas supereminet omnis (Latonae tacitum pertemptant gaudia pectus): talis erat Dido, talem se laeta ferebat per medios instans operi regnisque futuris5.
«Как на берегах Эврота или по хребтам Кин-фа водит хороводы Диана, следуя за которой со всех сторон собирается тысяча Ореад; она несет на плече колчан и, выступая, возвышается над всеми богинями (молчаливая радость проникает в сердце Латоны): такой же была Дидона, такая же, радостная, шла среди толпы, устремляясь [мыслями] к делам, связанным с будущим царствованием».
Сопоставления Дидона – Диана и Медея – Прозерпина построены по одной схеме: им предшествуют два «вводных» стиха (Aen. I, 496-497 - Arg. V, 341-342), 1-я часть обоих сравнений вводится словом qualis и занимает пять стихов, а 2-я – словом talis и умещается в две строки. Общей схеме соответствуют и лексические параллели: per iuga – per… iuga; aut – aut; choros – choros; hinc atque hinc – hinc… hinc; Diana – Dianae. Кроме того, в обоих пассажах говорится о том, что девушка превосходит окружающих ростом (deas su-pereminet omnis – altior ac nulla comitum certante), а также упоминается красота (forma pulcherrima Dido (не в самом сравнении, но в предшествующем стихе; I, 496) - decor). Если учитывать «вводные» стихи (Aen. I, 496–497, Arg. V, 341–342), то наблюдаем параллели in… ripis – ripam и magna iuvenum stipante caterva – aequali Scythidum com-itante caterva (Дидона идет в сопровождении толпы молодых людей, Медею же окружает толпа скифянок). Более того, оба сравнения занимают схожее место в структуре поэм: Дидона показана перед встречей с Энеем, Медея – незадолго до встречи с Ясоном.
Но акценты у Вергилия и Валерия Флакка разные. В «Энеиде» акцент – на первенстве Дидоны и ее власти: царица возглавляет шествие, а следом за ней идет толпа тирских principes; она выдается из своего окружения и занята совсем не женским делом – управляет городом. В «Ар-гонавтике» акцент – на красоте (decor) и внешнем превосходстве (nulla comitum certante) Прозерпины. Вероятно, Валерий Флакк учитывал и источник вергилиевского пассажа – сравнение из гомеровской «Одиссеи», где Навсикая сопоставляется с Артемидой (VI, 102-109), - в нем подчеркнута красота девушки.
Что касается топонимов в сравнении Медея – Прозерпина , то, как и у Вергилия, в «Аргонавти-ке» приведены два места – Гиметт и Сицилийский утес. Гиметт – это гора в Аттике, которая славилась медом, о чем писали многие римские поэты6, которые называли Гиметт цветущим (florens): Ovid. Ars Amat. III, 687 (colles florentis Hymetti), Met. VII, 702 (vertice de summo floren-tis Hymetti); сладким (dulcis): Seneca Phaedra 22 (rupem dulcis Hymetti), Val. Fl. I, 397 (in dulcem… Hymetton), Iuv. Sat. 13, 185 (dulcique senex vicinus Hymetto); душистым (olens): Stat. Theb. XII, 622 (olentis arator Hymetti).
Сицилия (а именно – город Энна) часто упоминается как место похищения Прозерпины7.
Топонимы, упомянутые Валерием Флакком, отличаются от вергилиевских: в «Энеиде» это берега Эврота и хребты Кинфа – река и гора, а в «Аргонавтике» – Гиметт и Сицилийский утес, то есть только горы. Валерий Флакк следует Гомеру, у которого названы горы, Тайгет и Эриманф. Но топонимы Валерия Флакка не соотносятся ни с теми, что есть у Гомера, ни с теми, что упоминает Вергилий: Тайгет расположен к западу от Спарты, Эриманф – в Аркадии, Эврот и Кинф находятся в Спарте и на Делосе соответственно, а у Валерия Флакка – Гиметт в Аттике и Сицилия.
Появление Сицилии в данном сравнении понятно: оно должно напомнить читателю о похищении Прозерпины, которое произошло на этом острове; что касается Гиметта, то здесь не все столь очевидно8. В поэтической традиции Гиметт – благоухающее место, где много цветов и пчел, – своеобразный locus amoenus; Валерий Флакк, упомянув время года (весну – verni Hymetti) и цветущие хребты (florea iuga), создает картину, в которую хорошо вписывается Прозерпина; она, в окружении подруг собирающая цветы на весеннем лугу, изображена в «Метаморфозах» Овидия (V, 391-394) 9 .
В отличие от Гиметта Сицилийский утес указывает на конкретный сюжет: похищение Прозерпины. Но возникает вопрос, как пони- мать hinc… hinc в стихах 344–345. По мнению И. А. Вагнера [13; 166], Прозерпина была с Минервой в Аттике, а с Дианой на Сицилии: hinc, in Attica, Pallados, hinc, in Sicilia, Dianae carae gressibus iuncta. П. Ланген [7; 371] пишет, что Минерва и Диана часто появляются в произведениях искусства, особенно на саркофагах, где изображено похищение Прозерпины, «которому они то ли пытаются помешать, то ли помогают». Г. Дж. У. Вийсман [14; 174] отмечает, что Минерва, Диана и Кора (Прозерпина) появляются вместе уже у Еврипида (Hel. 1312–1317) и Диодора Сицилийского (V, 3, 4)10. Упоминание Минервы, Дианы и Прозерпины в одном контексте, видимо, стало обычным. Это подтверждается двойным hinc в указанных стихах Валерия Флакка: когда речь идет о двух разных местах, используется hinc... illinc (например, Lucan. II, 399-402; Apul. Met. XI, 5); когда же речь идет об одном месте, употребляется hinc… hinc (например, Lucan. III, 280–283).
Итак, сравнение Медея – Прозерпина имеет множество перекличек со сравнением Дидона – Диана из 1-й книги «Энеиды» Вергилия. В отношении tertium comparationis и топонимов Валерий Флакк делает отсылку к сопоставлению Навсикая – Артемида из «Одиссеи». Таким образом, сравнение Медея – Прозерпина имеет два источника, на которые прямо указывает поэт.
Парой к сравнению Медея – Прозерпина выступает сопоставление Ясон - Сириус (V, 366372)11, которое появляется после того, как Юнона оросила Ясона «новой силой и блеском румяной молодости» (mole nova et roseae perfudit luce iuventae; ст. 365):
iam Talaum iamque Ampyciden astroque comantes
Tyndaridas12 ipse egregio supereminet ore13.
non secus autumno quam cum magis asperat ignes
Sirius et saevo cum nox accenditur auro luciferas crinita14 faces, hebet15 Arcas et ingens Iuppiter16. ast illum tanto non gliscere caelo vellet ager, vellent calidis iam fontibus amnes. «И вот он превосходит прекрасным лицом Талая, сына Ампика [то есть Мопса] и Тинда-ридов [то есть Кастора и Поллукса], у которых волосы сияют, как звезды. Не иначе, чем когда Сириус осенью сильнее разжигает огни и когда ночь, у которой волосы в виде несущих свет факелов, озаряется грозным золотом, бледнеет Аркад и могучий Юпитер. Но поле хотело бы, чтобы он [Сириус] не разгорался по такой большой части неба, [этого же] хотели бы реки с уже вскипающими водами».
Сириус нередко упоминается у поэтов приносящим смертоносную жару: например, Germ. Fr. Arat. fr. 4 (4+3), v. 41–42 (letifer Sirius); Sil. It. Pun. XVI, 99 (letiferos accendens Sirius ignis); Stat. Silv. II, 1, 216 (letalis Sirius); App. Verg. Aetna 602 (vigil fervens ubi Sirius ardet); Verg. Georg. IV, 425
(rapidus torrens Sirius); Aen. X, 273–275 (…aut Sirius ardor / ille sitim morbosque ferens mortalibus aegris / nascitur et laevo contristat lumine caelum) и т. д. Отчасти с этим связан зловещий подтекст данного сравнения.
В эпической поэзии есть несколько сравнений с Сириусом, но все они так или иначе восходят к Гомеру. Прежде всего это пассаж из 5-й песни «Илиады», где с сиянием Сириуса сопоставляется блеск Диомеда, которым его наделила Афина (V, 4-8):
da‹š oƒ ™k kÒruqÒj te kaˆ ¢sp…doj ¢k£maton pàr ¢stšr’ Ñpwrinù ™nal…gkion, Ój te m£lista lamprÕn pamfa…nVsi leloumšnoj çkeano‹o: town oi p^r da «Зажгла ему от шлема и щита неистощимый огонь, подобный звезде позднего лета, которая ярче всех сияет, омывшись в Океане: такой ему огонь зажгла от головы и плеч и отправила его в середину, где теснилось больше всего воинов». И у Валерия Флакка, и у Гомера богиня помогает герою: у Гомера Афина дала Диомеду силу и смелость (mšnoj kaˆ q£rsoj), у Валерия Флакка Юнона наделяет Ясона «новой силой и блеском румяной молодости». Однако большее влияние на традицию оказало, как представляется, сравнение из 22-й песни «Илиады», где блеск панциря Ахилла, бегущего по троянской равнине, сопоставляется с Псом Ориона (ст. 25–32) [3; 330]: TÕn d’ Ö gšrwn Pr…amoj prîtoj ‡den Ñfqalmo‹si pamfainonq’ roj t’ aster’ ™pessvmenon pedioio, oj pa t’ oprorhj eisvv, ariZhloi de oi avgai fainontai pollo lamprotatoj pev o g’ ™sti, kakon de te s^ma te-tuktai, ka… te fšrei pollÕn puretÕn deilo‹si broto‹sin: ìj toà calkÕj œlampe perˆ st»qessi qšontoj. «Старец Приам его [то есть Ахилла] первым увидел [досл. глазами], несущегося по равнине и сияющего, словно звезда, которая восходит в конце лета, и блеск [ее] ярок среди многочисленных звезд во мраке ночи; ее называют псом Ориона. Она ярче всех, но является дурным знамением и несет несчастным людям сильную жару; так у него [то есть Ахилла] бегущего медь блистала вокруг груди». На первый взгляд может показаться, что это – стандартное эпическое сравнение: tertium comparationis – сверкание доспехов и звезды – задано expressis verbis (ст. 26; 32), а все подробности о Сириусе имеют характер автономного отступления. Однако, рассказывая об этой звезде, Гомер акцентирует ее вредоносность17 – и тем самым сравнение с Ахиллом, сеющим вокруг себя смерть, получает дополнительное, эксплицитно не выраженное, но более значительное tertium comparationis. Приам, глазами которого увиден Ахилл, не любуется блеском его доспехов, а с ужасом следит за приближением смертельно опасного врага18. У Валерия Флакка в качестве tertium compar-ationis выступает яркость и, как следствие, внешнее превосходство (Ясон внешне настолько ярче Талая и других красавцев, насколько Сириус, когда озаряет осенью небо своим светом, ярче Аркада и Юпитера, то есть и Ясон, и Сириус выделяются на фоне других людей и звезд соответственно); но тут же содержится указание на пагубность Сириуса (saevo cum nox accenditur auro; ast illum tanto non gliscere caelo / vellet ager, vellent calidis iam fontibus amnes), а это уже 2-е tertium comparationis – вредоносность: Ясон, подобно Сириусу, окажется гибельным для Медеи. Таким образом, в вопросе tertium comparationis Валерий Флакк следует за Гомером; помимо прочего, на это указывают и лексические переклички: Ñpèrhj – autumno; nuktÕj ¢molgù – nox; ¢r…zhloi aÙgaˆ – ignes, luciferas faces. Сравнение с Сириусом есть и у Аполлония Родосского (III, 956–961) [3; 330]19: aÙt¦r Óg’ oÙ met¦ dhrÕn ™eldomšnV ™fa£nqh 0yos’ anaqrroskwn a te Seipoj ’Wkeano «Он [то есть Ясон] же немного спустя показался томимой желанием [Медее], взмывая вверх, как Сириус из Океана, который прекрасным и ярким для взора20 восходит, но на мелкий скот безмерную беду нагоняет: так же прекрасным для взора к ней подошел Эзонид, но, появившись, муки любви пробудил». Здесь, как и у Валерия Флакка, с Псом Ориона сравнивается Ясон; а два tertia comparationis, как и у Гомера, – сначала яркость и красота, затем вредоносность; но и то и другое выражено эксплицитно (kalÕj; k£maton dὲ dus…meron ðrse). В данном случае Валерий Флакк больше сближается с Аполлонием – у обоих речь идет о внешней красоте героев, тогда как у Гомера – о сиянии доспехов. А вот лексических параллелей между сравнениями Аполлония Родосского и Валерия Флакка нет. По мнению Т. Стоувера [12; 199], сравнение Валерия Флакка подсказано той повествовательной частью поэмы Аполлония, где Гера делает Ясона внешне более привлекательным перед его свиданием с Медеей (Ill, 919-926): tÕn kaˆ papta…nontej ™q£mbeon aÙtoˆ ˜ta‹roi lampÒmenon car…tessin: ™g»qhsen dὲ keleÚqῳ ’Ampuk…dhj, ½dh pou Ñiss£menoj t¦ ›kasta. «Тогда никто из более древних мужей не был таким, ни даже те, кто по происхождению от са- мого Зевса, ни герои, которые родились от крови других бессмертных; таким Ясона сделала супруга Зевса в тот день и на вид, и для беседы. И озираясь, сами товарищи изумлялись, как он блещет красотой: радовался по дороге Ампикид [то есть Мопс], уже все обдумав». Действительно, и в плане композиции пассаж Валерия Флакка схож с приведенными стихами Аполлония. Однако у последнего речь идет лишь о красоте, тогда как у Валерия Флакка важную роль играет момент опасности, таящейся в герое. Наконец, латинским образцом для Валерия Флакка могло послужить сравнение из «Энеиды» (X, 270-275) [3; 330]: ardet apex capiti cristisque a vertice flamma funditur et vastos umbo vomit aureus ignis: non secus ac liquida si quando nocte cometae sanguinei lugubre rubent, aut Sirius ardor21 ille sitim morbosque ferens mortalibus aegris nascitur et laevo contristat lumine caelum. «На голове горит шлем, с верхушки на гребне разливается пламя, и золотой щит извергает обширный огонь: подобно тому, как в ясную ночь кроваво-красные кометы зловеще алеют, или появляется жаркий Сириус, несущий жажду и болезни несчастным людям, и омрачает небо зловещим блеском». Здесь с кометами и Сириусом сравнивается огонь, исходящий от Энея. Несомненно, Вер- гилий знал гомеровские стихи, послужившие ему образцом: у него речь идет тоже о военной амуниции, которая блестит и – что важнее – сопряжена с гибелью22. Кроме того, как замечает С. Харрисон, оба сравнения (это и Il. XXII, 25-32) поданы с точки зрения противника [4; 146]. Что касается Валерия Флакка, то он повторяет некоторые слова и выражения вергилиевского сравнения: non secus – non secus ac; nox – nocte; (nox) luciferas crinita faces – cometae sanguinei. Таким образом, сопоставление Ясон – Сириус у Валерия Флакка имеет три основных источника, которые поэт использует по-разному: 1) из «Аргонавтики» Аполлония он заимствует объект сравнения (внешность героя); 2) с соответствующими стихами из 22-й песни «Илиады» и 10-й книги «Энеиды» сближается лексически; 3) из «Илиады» (XXII, 25–32) заимствует tertium comparationis. Итак, сравнения Медея – Прозерпина и Ясон – Сириус имеют несколько источников, на которые Валерий Флакк указывает намеренно: сопоставление Медея – Прозерпина перекликается со сравнениями Дидона – Диана из «Энеиды» и На-всикая – Артемида из «Одиссеи»; сопоставление Ясон – Сириус имеет связь с пассажами из «Ар-гонавтики» Аполлония Родосского, гомеровской «Илиады» и «Энеиды» Вергилия. ON SOURCES OF PAIRED SIMILES IN VALERIUS FLACCUS’ “ARGONAUTICA” (V, 343–349; 366–372) The article deals with the study of sources providing two pair similes found in Valerius Flaccus’s work “Argonautica”: Medea – Proserpina (V, 343–349) and Iason – Sirius (V, 366–372). The author analyzes similarities and differences between two similes: Medea – Proserpina and Dido – Diana (Verg. Aen. I, 498–504), examines similarities between similes Medea – Proserpina and Nau-sicaa – Artemis (Hom. Od. VI, 102–109), and considers the simile Medea – Proserpina, which has two sources directly pointed out by the poet. The author juxtaposes the simile Iason – Sirius found in other passages, in which something / somebody is compared to Sirius: Hom. Il. V, 4–8; XXII, 25–32; Apoll. Rhod. III, 956–961; Verg. Aen. X, 270–275. The author clarifies that the simile Iason – Sirius has three main sources differently employed by the poet: tenor (appearance) is borrowed from Apollonius’ “Argonautica”, vocabulary is close to Il. XXII, 25–32 and Aen. X, 270–275, and tertium comparationis is adopted from Il. XXII, 25–32.
Список литературы Об источниках парного сравнения в «Аргонавтике» Валерия Флакка (V, 343-349; 366-372)
- Котова А.В. Verg. Aen. I, 498-504: Об уместности сравнения//Philologia Classica. 2014. Вып. 9. С. 275-287.
- Gai Valeri Flacci Setini Balbi Argonauticon libros octo rec. W.-W. Ehlers. Stutgardiae: In aedibus B. G. Teubneri, 1980. XXVIII + 217 p.
- Gärtner U. Gehalt und Funktion der Gleichnisse bei Valerius Flaccus. Stuttgart: Franz Steiner, 1994. 362 s.
- Vergil. Aeneid 10/With Introd., Transl., and Comm. by S.J. Harrison. Oxford: Clarendon Press, 1991 (repr. 2002). XLIII + 303 p.
- Apollonius of Rhodes. Argonautica. Book III/Ed. by R.L. Hunter. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 266 p.
- Hunter R.L. The Argonautica of Apollonius: Literary Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. X + 206 p.
- C. Valeri Flacci Setini Balbi Argonauticon libri octo/Enarrav. P. Langen. T. I-II. Berolini: Apud S. Calvary & Co., 1896-1897. 574 p.
- P. Vergili Maronis opera/Rec. brevique adnotat. crit. instr. R.A.B. Mynors. Oxford: Clarendon Press, 1969. XVI + 452 p.
- Richardson N. The Iliad: A Commentary. Vol. 6: Books 21-24. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. XX + 387 p.
- Smolenaars J.J.L. Quellen und Rezeption. Die Verarbeitung homerischer Motive bei Valerius Flaccus und Statius//Ratis omnia vincet. Untersuchungen zu den Argonautica des Valerius Flaccus/Herausgegeben von M. Korn und H.J. Tschiedel. Hildesheim; Zürich; New York: Georg Olms, 1991. S. 57-71.
- Spaltenstein F. Commentaire des Argonautica de Valérius Flaccus (livres 3, 4 et 5). Bruxelles: Éditions Latomus, 2004. 563 p.
- Stover T. Epic and Empire in Vespasianic Rome: A New Reading of Valerius Flaccus’ Argonautica. Oxford: Oxford University Press, 2012. XII + 244 p.
- Commentarius perpetuus in C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libros VIII/Conscript. a I.A. Wagner. Gottingae: Sum-tibus Henrici Dieterich, 1805. 284 p.
- Valerius Flaccus. Argonautica, Book V/A commentary by H.J.W. Wijsman. Leiden; New York; Köln: Brill, 1996. XII + 322 p.
- Wilkinson L.P. Golden Latin Artistry. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. XIII + 283 p.