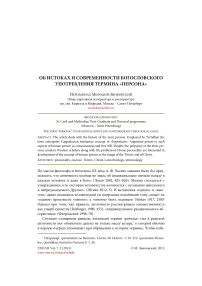Об истоках и современности богословского употребления термина «персона»
Автор: Зинковский Мефодий
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.7, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история богословского употребления термина «персона». У Тертуллиана термин упреждает каппадокийское тринитарное понятие «ипостаси». Блаж. Августин указал на такие элементы человеческой персоны как самосознание и свободную волю. Несмотря на многозначность термина «персона», современных западных богословов наряду с проблемой Божественной персональности интересует развитие концепции человеческой персоны, как «образа Троицы» и «образа Христа».
Персона, сущность, троица, христос, латинское богословие
Короткий адрес: https://sciup.org/147103354
IDR: 147103354
Текст научной статьи Об истоках и современности богословского употребления термина «персона»
По мысли философа и богослова XX века А. Ф. Лосева «наивно было бы предполагать, что античность вообще не знала об индивидуально-личном начале в каждом человеке и даже в Боге» (Лосев 2002, 825–826). Можно согласится с утверждением, что «история человечества начинается с осознания непохожего и непредсказуемого Другого» (Штайн 2012, 3). И антиномия «одного» и «многого» давно волновала человеческий ум вопросами подобными тому, может ли «единое» произвести «многое», а «многое» быть «единым» (Stokes 1917, 250)? Однако при этом, как правило, античность рассматривала множественность как ущерб единству (Ratzinger 1990, 453), «индивидуальное раздавливалось абстрактным» (Флоровский 1998, 70).
Согласно словарным данным, латинский термин «persona» уже в римской античности мог обозначать далеко не только маску актера,1 о которой обычно в первую очередь упоминают при обращении к истории термина. Чтобы избе-
жать упрощенчества, нам должно указать и на другие, не менее важные античные значения термина «persona». Это и собственно персонаж, изображаемый актером,2 а также конкретный человеческий индивидуум3 с его юридическими правами и обязанностями,4 жизненной ролью5 и характером, и даже личность человека, понимаемая как его индивидуальность и рассматриваемая в противовес вещам и действиям.6 Наконец, термин «persona» мог служить и для персонификации абстрактных понятий7 и обозначать грамматическое понятие лица.8 В решении вопроса об этимологических корнях слова «persona»9 и разнообразии его исторических значений, точки зрения филологов разнятся.10 Но даже наиболее известный, базовый смысл слова, связанный с различными видами и применением масок, отражает возможность употребления его в богословии, поскольку маска есть не только древнее театральное средство, но и
«способ сакрализации», «дискурса», посредством которого «человек предстоит», по-видимому, пока в основном со страхом, своему пониманию «Вечности», и даже сам «становится «имманентно-трансцендентным существом» (Штайн 2012, 3–4, 18–19, 152–153).
«Персона» в Священном Писании
В Библейском латинском тексте термин «persona» и производные от него употребляются не часто, но, тем не менее, устойчиво. Наиболее распространенным и повторяющимся оказывается применение термина в различных книгах Ветхого и Нового Заветов в контексте понятий «лицеприятие» / «нелицеприятие». Бог и Его суд нелицеприятны,11 а человеческое лицеприятие Ему неугодно, Он требует не различать лиц ради правды Божией.12 В греческом оригинале Септу-агинты, как правило, термину «persona» соответствует термин «πρόσωπον», а в английском переводе слово «person».13 Очевидно, что в подобных местах Св. Писания речь идет далеко не столько о внешнем виде лица человека, сколько о его положении в обществе, значимости. Подобным образом, «persona» как лицо, обозначает всего человека, описывая его как почтенного, влиятельного, славного или неразумного.14
Особого внимания заслуживает библейское выражение «ex persona» или «in persona» – «от лица», «в лице». Уже в книге Судей 11. 12 находим словосочетание «ex persona sua», означающее здесь «в собственном лице». В латинском переводе 2 Кор 1. 11 используется выражение «ex multis personis» – «от многих персон», «посредством многих». Словосочетания «ex persona» и «in persona sua» встречаются и у ряда близких по времени к Новому Завету латинских философов, например у Светония, Цицерона и Квинтилиана. Они означают изречение от чьего-либо лица.15 Например, у Квинтилиана говорится, что «Цице-
Иеромонах Мефодий Зинковский / ΣΧΟΛΗ Vol. 7. 2 (2013) 293 рон собственной персоной», т. е. сам, утверждает пользу переводов с греческого языка на латинский для ораторов и называет красноречие добродетелью.16 Также «философы-стоики и платоники интерпретировали поэмы Гомера и философские работы Платона, в которых автор говорит от определенного лица – бога, героя или собеседника» (Balthasar 1976, 20) с целью оживления повествования (Bennet 2010, 175). Подобным приемом пользуется и апостол Павел. Так, Дидим Слепец считает, что в Послании к Римлянам 7. 7–24 речь ведется от лица Адама после грехопадения (Bennet 2010, 177). Отличие выражения в 2 Кор 1. 11 состоит в том, что имеется в виду не просто речь «от лица», но ходатайство многих лиц за апостола. Ходатайство перед Богом – молитва, которая всегда отражает личное участие и заинтересованность ходатая.
Своего смыслового «пика» словосочетание достигает в 2 Кор 2. 10: «in persona Christi». Здесь речь идет о прощении апостолом согрешивших «от Лица Христова».17 Очевидно, что «прощение» исходит от личного начала и обращается опять же к личности. Апостол Павел выражает мысль о своей таинственной власти представлять волю и личность Христа в церковных действиях, в частности, в прощении грехов.
Отметим также, что порой высказываемая мысль о том, что латинский термин «persona», имея своим первым словарным значением именно актерскую «маску», будучи употреблен в латинском богословии, сам по себе якобы уже подталкивал богословие к той или иной форме модализма, является, по мнению современных исследователей, глубоко ошибочной. В христианскую эпоху «маска», как значение слова «персона» было уже далеко не первичным (Ayres 2004, 74).
«Персона» у Тертуллиана
Как отмечают исследователи, Тертуллиан был первым богословом, начавшим созидание «церковного латинского языка» (Donaldson 1909, 41, 21) и латинской христианской терминологии (Greenslade 1956, 440). Он во многом задал вектор развития латинского богословия, и в том числе потому, что раз витая им терминология повлияла на «дальнейшее развитие религиозной мысли».18 Хотя конечно, нужно отметить, что как подлинный творческий и одновременно церковный мыслитель, он находился под определенным влиянием предшествующих авторов, в частности, св. Иустина Философа, Тациана и свт. Иринея Лионского (cм. Norris 1966, 108).
Триадология Тертуллиана считается одной из самых «глубоко разработанных в до-никейский период» (Фокин 2005, 82). Тертуллиан считается первым из латиноязычных авторов, который употребляет термин «Τrinitas», хотя еще не собственно в строгой Триадологии,19 но в тринитарном домостроительстве (Dunn 2004, 36), которое у него, как у многих до-никейских авторов, связано с учением о монархии Отца (Osborn 1997, 123–125) и «эмпирическим» образом богословия (Moingt 1966, 274). Также именно Тертуллиану принадлежит новаторство в богословском использовании терминов «persona» и «substantia», хотя он лишь «очерчивает контуры» употребления этих новых в латинском богословии понятий.20 Однако, несмотря на это, анализ образа употребления понятия «persona» Тертуллианом позволяет сделать ряд содержательных выводов о той первичной богословской нагрузке, которую он ему усваивал. Так Престиж утверждает, что Тертуллиан применяет термин «persona» к Персонам Троицы практически в том же смысловом значении, как «πρόσωπον» употреблялось в приложении к Ним в греческом богословии (Prestige 1952, 159). Другие исследователи полагают, что Тертуллиан намного опередил свое время в применении термина «персона» (Sider 1982, 253), сделав «важную попытку развития философских категорий для выражения того, в чем Бог един и того, в чем Он троичен» (Daley 2006, 26).
Термин «persona» неоднократно используется Тертуллианом, причем с различным спектром значений. Он может означать в его текстах и маску актера,21 и указывать на лицо, от кого ведется речь,22 может определять конкретный че- ловеческий индивидуум23 и его взаимоотношения с другими людьми и Богом.24 Однако есть достаточно примеров и собственно богословского употребления Тертуллианом термина «persona». Так, в трактате Против Праксея (Adversus Praxean) он говорит об «очевидном персональном различии» между неявленным Отцом и явленным нам Сыном.25 Согласно исследователям творчества Тертуллиана, он, анализируя Св. Писание, находит возможным «идентифицировать» в структуре текста «Отца, Сына и Духа как собеседников», участников «внутри-божественного диалога» (Ratzinger 1990, 442), каждый из которых есть «самостоятельная Персона», нумерически (Warfield 1905, 556) отличная от других (Slusser 1988, 465), причем каждая из Персон обладает Своими отличительными свойствами.26 Даже в тех отрывках, где не употребляется сам термин «persona», но речь идет об отношениях между Лицами Троицы, можно сказать, что Тертуллиан стоит у истоков «богословия отношений»,27 столь активно развивающегося сегодня. «Взаимное отношение» означает для Тертуллиана, «что Отец не может относиться к себе, как к Сыну» (Osborn 1997, 127) и наоборот. Действительно, Тертуллиан использует «слово «персона» для описания того уровня, на котором Отец, Сын и Дух нераздельно различны» (Dunn 2004, 36). Это оттеняется еще и тем, что с понятием Лица-Персоны у Тертуллиана «соотносится слово alius – «иной», «другой». Иной есть Отец, иной – Сын и иной – Дух Святой» (Фокин 2005, 95–96).
В Adversus Praxean 2. 3 непосредственно описывается, в чем состоит различие Персон Троицы. Они различны «не в положении (качестве бытия), но в порядке, не в сущности, но в образе (существования), не в силе, но в явлении».28 В этом же сочинении, но несколько далее, автор говорит, что отличие Персон состоит не в их «разделении, но в расположении».29 Тут Тертуллиан, очевидно, предвосхищает каппадокийское понятие отличительных «ипостасных свойств» Божественных Лиц.
Отметим здесь, что слово «gradus», переведенное у Эвенса как «порядок», имеет различные значения в латинском языке. На наш взгляд, наиболее подходящее из возможных значений этого слова, исходя из контекста рассуждений Тертуллиана в данном отрывке, это: «ход», «течение», «движение», или даже «приближение». Это представляется нам так именно потому, что для Тертуллиана неразрывно связаны между собой домостроительство и троичность. Гарнак видел в Тертуллиане субординациониста30 и, возможно, что некоторую склонность к субординационизму, столь свойственному до-никейскому богословию, можно у последнего найти.31 Однако перевод «gradus» в рассматриваемой цитате его возможными значениями «ступень» или «достоинство» представляется все-таки неадекватным контексту.32 Вообще же «равенство трех Персон Троицы по сущности, статусу и потенции является центральной темой во многих сочинениях Тертуллиана» (Osborn 1997, 133). Причем, присутствующее у него учение о монархии Персоны Отца построено таким образом, что способствует различию Лиц Троицы при минимальном соблазне субордина-ционизма. Так Тертуллиан, в частности, говорит, что Сын и Дух, занимая соответственно второе и третье место (в икономии), являются «со-владельцами» (consortibus) общей сущности с Отцом («consortibus substantiae Patris», Adversus Praxean 3. 5). Сыновство Сына утверждает отцовство и монархию Отца, не нарушая единобожия и наоборот, отцовство Отца утверждает сыновство Сына, не вводя многобожия (Adversus Praxean 10. 4–6. Evans 1948, 141–142).
В другом своем сочинении – Против Маркиона (Adversus Marcionem), Тертуллиан, рассуждая об исполнении евангельских слов Христа о ненависти мира к христианам из-за «имени Христа», говорит об имени Христа как принадлежащем Его Персоне.33 Также, размышляя о таинстве крещения, Тертуллиан подчеркивает, что христианское крещение тройственно потому, что каждой из Персон Троицы принадлежит отдельное имя: «singular nomina in personas sin-gulas tinguimur» (Adversus Praxean 26. 9; Evans 1948, 172). Таким образом, «Пер- соны» в Боге для Тертуллиана обладают собственным именем.34 Современные исследователи творчества Тертуллиана уверены в том, что его Христология вытекает из его же Триадологии, и что Тертуллиан, «предвосхищая Халкидон-ское определение веры» (Daley 2006, 29), ясно говорит об одной Персоне Господа Иисуса Христа,35 в которой соединились две природы.36 Обладающая своим именем Персона Христа обладает и тем, что это имя обозначает, т. е. Божеством и человечеством, в то время, как во внутри-тринитарном богословии три Персоны, обладая различными именами, обладают одной общей Сущностью, ибо имя каждой из Персон (Отец, Сын и Дух), с одной стороны, обозначает общую им Божественную природу, а с другой, указывает на их персональное различие. Так, например, в Adversus Praxean 7. 9 говорится, что Персона Бога Слова означает Его Божественную Сущность, но носит имя Сына, отличая Его, как Другого, от Отца.37
Можно говорить о том, что употребленный в богословском смысле термин «persona» у Тертуллиана имеет приготовительное значение для каппадокийского тринитарного понятия «ипостаси» (Селиверстов 2008, 91), ибо он «понял, что «персона» может послужить обозначению личного отличия в едином бытии Троицы» (Bamford 2012, 97). Фактически Тертуллиан, опираясь всесторонне на понятие отношений, на латинский перевод Септуагинты и Нового Завета (Greenslade 1956, 23), наряду с греческим богослужебным языком, приготовил почву для богословия «трех Персон» и «одной Субстанции» в Триадо-логии,38 равно как одной Персоны и двух природ в Христологии,39 причем еще задолго до официального принятия подобной терминологии церковью.40 Он, конечно, далеко не решил еще троичную проблему, но способствовал ее прояснению, введя «отношение» между Персонами Троицы. Лица Троицы пред- ставляют для него не атрибуты Сущности, не просто ее имена или свойства, но нечто большее, ибо, согласно исследователям Тертуллиана, для него «Сущность не объясняет троичность» вне самой троичности, т. е. троичность не является следствием единства, но равноправна и нераздельна с единством, и они «взаимозависимы» (Osborn 1997, 121–122, 124).
«Персона» у блаж. Августина
Влияние блаж. Августина в целом на западную богословскую мысль и, в частности, на тринитарное богословие было, несомненно, огромным, причем исследователи отмечают «завершенность» Триадологии Августина (Warfield 1905–1906, 166). Термин «persona» блаж. Августином применяется многократно в различных сочинениях и в различных его возможных смыслах, в частности, для обозначения человеческого индивида и его свойств. Например: «per-sona conlocutoris mei»41 – персона со мной говорящая (о человеке), «de persona episcopali»42 – персона епископа или персона с определенными личными свойствами: «imprudenti persona».43
Но обратимся сразу к собственно богословскому употреблению «persona» блаж. Августином. Он часто говорит о «персоне» во Христе, в частности, комментируя слова апостола «ex persona Christi»,44 а также вообще о персонально-сти Бога. Так, блаж. Августин неоднократно говорит о том, что ангелы и пророки в Писании говорят от персоны (лица) Бога и Господа.45 Выражение «ex persona» приобретает у него еще более расширенную смысловую нагрузку, поскольку Иппонский епископ открывает тему «вместимости» персоной других персон. Так, он, например, утверждает, что Христос может говорить от лица церкви, которая, будучи собранием верных, преображающихся в Нем, есть тело Его: «haec Christus ex persona sui corporis dicit, quod est ecclesia».46 В христианах может и должна, в большей или меньшей степени, проявляться персона Христа.47 Можно сказать, что тут блаж. Августин предвосхищает будущее свя- тоотеческое представление о много-ипостасности во Христе, которое реализуется посредством объятия Им членов церкви.48
В своей Христологии блаж. Августин ясно излагает учение о двух природах в одной Персоне Христа: как душа и тело составляют одну человеческую персону, так во Христе – Слово и человек – одна Персона,49 Божество и человечество суть Персона единого Христа Иисуса.50 Блаж. Августин говорит также о «воплощенной»51 и о «смешанной»52 (в смысле соединения природ) персоне Христа. Именно персональность оказывается принципом, объединяющим качественно различные тварную и нетварную природы, Сына Божия и сына че-ловеческого.53 Именно поэтому в Троице не появляется некое четвертое начало, но она остается Троицей и в свете догмата Воплощения.54
Хотя основным источником учения блаж. Августина о Троице является De Trinitate, мы можем почерпнуть и из других его сочинений ряд наблюдений о его тринитарной терминологии и взглядах. Так, уже из писем блаж. Августина мы узнаем, что он называет Троицу «нераздельной» и подчеркивает нераздельность деятельности трех Персон.55 Сущность называется «общей» для Персон, Божественная природа действительно одновременно присутствует равным образом в трех Персонах.56
При этом Августин четко различает Персоны Троицы. Так, например, он говорит о том, что в псалмах Св. Дух от Персоны Отца обращается к Сыну,57 и последовав примеру Тертуллиана, численно различает Персоны в Боге.58 И Отец есть Персона, и Сын, и Святой Дух, итого три Персоны.59 При этом блаж. Августин подчеркивает, что мы можем называть каждую из Персон Троицы Богом в единственном числе и всю Троицу Богом в единственном числе по причине Их невыразимого единства и общности Сущности. Но мы не можем назвать Троицу Персоной в единственном числе, поскольку именно это понятие позволяет провести различие между Лицами. Ибо Сын не есть Отец, и Дух не есть Отец или Сын. Св. Писание, хотя не пользуется термином «персона», но позволяет применить терминологическую множественность к Богу для описания троичности. По Божеству три Персоны едины, а по отношениям между Ними познается Их различие. Так оправдывается еще тертуллиановская формула: три Персоны, одна Сущность.60 Единство Сущности означает полное равенство Персон по свойствам Божества,61 так что две или три Персоны не больше чем одна из Них.62
Подчеркивая относительный характер понятия Персоны в Боге, блаж. Августин при этом не впадает в ту крайность, которая возникла позже в западном богословии, и не отождествляет Персону с отношением! Он говорит, что Персона Отца называется так, прежде всего, по отношению к Нему Самому, а не по отношению к двум другим Персонам, хотя именно по Их отношениям мы познаем Их различие. Каждая Персона при этом не отлична, а тождественна Своей и общей для Персон Сущности.63
В De Trinitate блаж. Августин вплотную подходит к понятию «модуса деятельности» персоны, хотя не использует прямо это выражение. Так, при нераздельности деяний Троицы, в Преображении на горе слышен глас только Отца, а воплощается только Персона Сына.64 Таким образом, различается единое действие Персон и различный образ Их участия в едином действии. Классическим «трини-тариям», таким как Григорий Нисский и блаж. Августин, характерно признание, что Персоны Троицы обладают одной волей, но не в смысле единого акта воли, а в смысле единого содержания и цели Их воления (Hasker 2010, 428).
В рамках тринитарных размышлений De Trinitate предлагает так называемую психологическую аналогию, согласно которой Персоны Троицы сравниваются со способностями человеческого сознания: разумом, памятью и любовью, которую блаж. Августин отождествляет с волей (к благу).65 Обратим внимание на то, что почву для троичной аналогии «в себе» дает Августину уже Тертуллиан,66 который в сочинении Adversus Praxean (5–6) подробно размышляет о человеческом сознании и сопутствующих ему разуме (reason) и рассуждении (discourse), являющихся образами пребывающих в Боге еще до сотворения мира Логоса и Духа.67 Если обратиться к античной латинской философии, то, например, у Цицерона в De Oratore можно найти рассуждения об ораторе, изображающем собой три воображаемые персоны в одной речи, поскольку рассказ выигрывает в живости, будучи распределен между персонами.68 Однако автор трактата имеет в виду условное единство лиц в речи оратора, вовсе не подразумевая того единства Персон, о котором идет речь в Триадологии Тертуллиана и Августина. Христианская мысль, несомненно, совершает «переворот» в человеческом мышлении, обращаясь к непостижимому абсолютному единству Персон Троицы в Их абсолютном различии.
В книгах 12–15 De Trinitate «познавательная способность» представлена не только как одна из возможных тринитарных аналогий, но и указание на человеческую потребность «ощутить свою идентичность как персоны, призванной к общению с Богом» (Ormerod 2005, 150). Мы можем сказать, что начало развития темы личной человеческой целостности69 и сообразности Богу принадлежит в латинском богословии именно блаж. Августину (Crouse 1981, 182). Мысли блаж. Августина о природе человеческого сознания и тринитарная аналогия дают почву для утверждения о несводимости сознания к одной лишь рациональной части человеческой природы. «В природе человеческого духа должна быть такая сторона, по которой он в самом существе сходен с Духом абсолютным. Должно быть, сходство именно в самом существе, а не отдаленная только аналогия».70 И вопреки высказываемым часто сомнениям по поводу возможности присутствия в Боге трех «сознаний», психологическая аналогия может иметь больше последствий, чем это может показаться современным исследователям. На каком основании, действительно, мы можем уверенно «отказать» Богу в троичности со-знания? Ведь возможно предположить, что сознания Отца, Сына и Духа, хотя и различны, но существуют лишь во взаимном перихоресисе (Heron 1989, 20–21).
Должно отметить, что в современной богословской полемике принято различать две тринитарные модели латинскую (LT – Latin Trinitarism) и социальную (ST – Social Trinitarism). Причем, если модель ST возводится к отцам Каппадокийцам, развивавшим тринитарную мысль от трех Лиц к единой Сущности, то модель LT принято связывать, прежде всего, с именем блаж. Августина, двигавшимся в обратном направлении – от единства к троичности.71 Однако подобное деление выглядит слишком схематичным и несколько натянутым (Barnes 1995, 237). В современном западном «пост-модернистском» богословии стало даже популярно критиковать блаж. Августина за выбранный им подход. Некоторые даже полагают, что это именно он неверным выбором направления мысли обусловил развитие индивидуализма в Западном мире (Heron, ed. 1989, 19). Однако ряд современных исследователей настаивают на ошибочности подобной интерпретации богословия блаж. Августина, подчеркивая, что он ясно выступает против любых представлений о Троице, которые бы приводили к приоритету Сущности над Персонами в Троице (Ayres 2000, 41; Daley 2006, 43). Блаж. Августин настаивает, что наше сознание не должно отделять Сущность от Персон, воспринимая Ее как нечто «за» Персонами стоящее или же Их содержащее (Ayres 2004 (1), 375, 381).
Положительной заслугой блаж. Августина можно признать то, что анализируя сознание человека, он утверждал «познавательную значимость человеческого разума», которую современное пост-кантианское мышление ставит под «значительное сомнение» (Ormerod 2005, 143). Используя психологическую аналогию и ясно осознавая ее ограниченность блаж. Августин, смог, с одной стороны, приоткрыть человеческому уму тайну единства триединого «умного» бытия, троичного со-знания трех Персон Троицы, а с другой, прикоснуться к тайне образа Бога-Троицы в человеке (Clark 2001, 91), приоткрыть «тайну человеческой личности» (Henry 1960, 22), которая на наш взгляд, не исчерпывается ни социальной, ни психологической моделью, представляя собой, образно говоря, целую «вселенную личного со-знания».72 Можно даже сказать, что блаж. Августин впервые заложил основания для определения человеческой личности: «он указал на основные элементы ее: самосознание, как объединяющее начало, и свободную волю, как начало жизни личности по априорным разуму идеям» (Четвериков 1904, 319).
Было бы очень односторонне полагать, что все главные проблемы западной богословской мысли (унитаризм, filioque, индивидуализм) возводятся к психологической тринитарной модели блаж. Августина. Так, например, в том же трактате De Trinitate он прибегает и к иным аналогиям, утверждая, в частности, что муж и жена вместе составляют образ Божий, будучи едино-природными73 и пользуется моделью трех людей – мужа, жены и сына – как еще одной троичной аналогией, признавая, впрочем, всю ее условность. В другом месте блаж. Августин ясно говорит об ограниченности психологической аналогии, указывая на тот факт, что человек, имея в себе разум, память и любовь, не отождествляется при этом с ними, но в «высшей природе, которая есть Бог» каждая из Персон тождественна Самому Божеству. При этом одна человеческая персона, хотя и рассматривается как образ Троицы Персон, но при этом не обладает той степенью внутреннего единства, какой обладают единосущные Персоны Троицы и поэтому аналогия признается неполноценной.74
Наконец подчеркнем, что хотя прот. Г. Флоровский и многие другие исследователи настаивали на связи блаж. Августина с неоплатонизмом,75 его богословие качественно отлично от неоплатонизма, по крайней мере, в двух аспектах, важных в рамках нашей темы. Во-первых, блаж. Августину совершенно не свойственно неоплатоническое «бегство» от материи. Он видит задачу человека «не в том, чтобы… стать выше этой реальности, а в том, чтобы внести в нее черты идеальности», т. е. преобразить. «С этой точки зрения, прежде всего, получает значение ценности внутреннее развитие, усилие, как необходимое условие для уподобления Абсолютной Личности… С этой же точки зрения получает значение и историческое развитие всего человечества» (Четвериков 1905, 11). «Человек входит вслед за Христом в историю и оказывается в ответе за смысл происходящего с ним».76 Во-вторых, употребление блаж. Августином понятия «persona» к Богу-Троице совершенно неприемлемо для неоплатонических воззрений на Абсолют. Ибо назвать Бога «персоной» значит для неоплатонического мышления поместить Абсолют «внутрь космоса», сделать его, пусть важной, но лишь «частью целого» (Armstrong 1977, 67). Для неоплатонизма, как и для всего до- и вне-христианского сознания, «персональность» нерасторжимо связана с «ограниченностью», и понятия «ипостась» или «пер- сона» неприменимы к Единому.77 Блаж. Августин, в частности, подчеркивает в De Trinitate 7. 6, что мы не можем называть Отца Персоной Сына или Духа или наоборот. Это дает нам еще раз основание утверждать, что он далек в своей Триадологии от плотиновской иерархии «ипостасей», где каждая низшая ступень бытия есть как раз «ипостась» вышестоящей!
«Персона» в современных западных христианских богословских исследованиях
Опуская огромный пласт разнообразного богословского и философского употребления термина «персона» в раннем и позднем средневековье (см. Bengtsson, 2006), обратимся сразу к современности. В современной богословской англоязычной литературе, вслед за богословским языком XIX века, термин «персона» активно употребляется как синоним «ипостаси» в Триадоло-гии.78 Уже Ветхий Завет, согласно исследователям XX века, говорит о Боге не иначе, как о персональном Существе (Knight 1959, 57–58, 96), хотя и не применяет непосредственно к Богу сам термин «персона». Предостерегая против усвоения Богу современных концепций индивидуума и призывая различать понятия «персоны» и «индивидуума», западные исследователи подчеркивают, что библейское представление о Боге как о персоне-личности соответствует «единству в различии», по образу которого создан Адам. Даже библейский антропоморфизм, склоняющий многих к примитивизации представлений ветхозаветного человека о Творце, может быть растолкован с точки зрения здравого персонализма. Усваивая Богу части человеческого тела, Библия «наглядным языком говорит о Нем как о Персоне», подобно человеческой выражающей Себя посредством Своих условных органов (Knight 1959, 58).
Современные западные богословские исследования в большей своей части свободно используют эквивалент латинского термина «persona»: «person» (англ.), «personne» (фр.), «persona» (итал.), «Person» (нем.) и слова от них производные: «personal», «personhood», «personlichkeit» и т. д. для обозначения богословского понятия личности, как в Боге,79 так и в человеке. Причем, это каса- ется как православных, так и римо-католических, англиканских и протестантских исследований практически в равной степени.80 Продолжая традиции XIX века, когда издавались, например, такие многотомники, как Начертания догматического богословия (Hunter 1898, 1899, 1900), Догматическое богословие81 и История развития учения о личности Христа (Dorner, Lindsay, Worthington 1862–1865), где термин «person» употребляется на регулярной основе в равной степени в Триадологии, Христологии и антропологии,82 в ΧΧ веке издаются, например, Христос в христианской традиции (Grillmeier1975) и неоднократно переизданный в США двухтомник Христианской догматики, который прибегает к понятию «person» более 1000 раз (Braaten, Jensen 1984). Электронная ри-мо-католическая энциклопедия признает эквивалентными термины «ипостась», «просопон» и «персона» в Триадологии.83 а в Католическом словаре просто отсылает для разъяснения богословского смысла слова «person» к слову «Trinity» (Attwater 1957, 644, 805–813). Один из выдающихся протестантских богословов XX–XXI века T. Торранс считал возможным синонимичное употребление понятий «ипостась» и «персона» в троичном богословии (Attwater 1957, 644, 805–813). Подходя к этой проблеме с полной философско-научной серьезностью, современный профессор-emeritus Оксфордского университета Свинберн находит возможным в своей емкой статье о Троице на 19 страницах употребить термин «person» почти 50 раз, а гораздо более опасный и дерзновенный с точки зрения лингвистики и богословия термин «divine individual» более 200 раз!84 Отметим здесь, что термин «индивидуум» может быть адекват- но употреблен в свете передаваемого им смысла неделимости «персоны», которая, в отличие от сущности, не может разделяться (Olssen 1884, 17).
При этом современные богословы вполне отдают себе отчет в проблематичности применения термина «персона» к Богу. С одной стороны, несомненные сложности возникают в свете той современной многозначности, которую, подобно русскому термину «личность», несет в себе современное английское слово «person».85 С другой стороны, сам термин, будучи концепцией, призванной указывать на различие и уникальность Персон в Боге, тем не менее, неизбежно, в силу человеческой логики, усваивает им некую концептуальную схожесть (Moltmann 1991, 88–89). Однако подобные опасения могут быть отнесены, может быть, не всегда с одинаковой интенсивностью, фактически к любым богословским понятиям. Поэтому, признавая опасность недооценить те нераскрытые «глубины», которые таит в себе идея «личностности» («person-hood», McGrath 1993, 200), современное западное христианское богословие в подавляющем большинстве своих представителей, не только не отказывается от употребления термина «персона», но и активно пытается исследовать богословские, философские и практические смысл и значение этого, столь противоречивого для нашего ума, понятия.
Да, в современном пост-декартовом мире, где понятие «персоны» несет в себе слишком «много индивидуальности и независимости» для традиционной Триадологии (Peters 1993, 35), присутствует опасность впасть в ошибку восприятия трех персон в Боге как трех автономных субъектов.86 Да, ряд богословов сомневается в успешности совершенных доныне попыток применения термина в богословии (Welker 1996, 77), хотя при этом, порой весьма активно, опирается на комплементарные понятию персоны концепции «отношения», «общения», «свободы», «творчества», «само-идентичности» и т. д., и признаёт возрастающее практическое значение тринитарного богословия (Welker 1996, 76), неразрывно связанного с персональным богословием. Не случайно, что, пожалуй, наибольшую известность получили в XX–XXI веках работы тех богословов, которые систематически уделяли пристальное внимание, хотя и в разных аспектах, проблеме соотношения «индивидуума» и «общности», как в Боге, так и в человеческом обществе.87 Можно с уверенностью говорить о том, что большинству богословов «представляется лучшим сохранить термин персона в использовании», поскольку «у нас нет достойной ему замены»,88 и «персональный язык» представляется лучшим и высшим в размышлениях о Боге и общении с Богом, явленным во Христе (O’Collins 1999 (1), 175). И даже сама спорная употребительность слова «персона» – «личность» в повседневности может быть рассмотрена с положительной стороны, в смысле сближения теоретического богословия с обычной человеческой жизнью (Lawrence 1980, 548).
При этом важно отметить, что наряду с проблемой Божественной персо-нальности, в не меньшей степени, а скорее даже в большей, современных западных богословов интересует развитие «концепции человеческой персоны», раскрытие «полноты нашего человечества и личностности» (Sopko 2004, 32), как «образа Божия» (Bamford 2012, 62, 71), «образа Троицы» (Maspero 2007, 124–125) и «образа Христа» (McDougall 2005, 132, 160–162), концепции, которая является «эсхатологическим понятием», призванным к «реализации в настоящем» посредством человеческого общения и посредством Духа Святого, действующего в Церкви Христовой.89 Перед современным богословием еще стоит далеко не решенная задача оценить глубину, сложность и достоинство сотворенной человеческой персональности.90 Но здесь мы оказываемся перед противостоянием тех, кто считает понятие «персоны» в человеке синонимично-тождественным его «индивидуальной природе с ее свойствами» (Sopko 2004, 25), теми, кто полагает, что стирание различия между «персоной» и «индивидуумом» в человеке является богословской ошибкой,91 но и теми, кто буквально отождествляет понятия «персоны» и «отношения», вынося «персону» на отличный от природы онтологический уровень.92
Список литературы Об истоках и современности богословского употребления термина «персона»
- Бриллиантов, А. И. (2002) «Блаженный Августин и его значение на Западе», Августин: pro et contra. Санкт-Петербург: 154-192.
- Лосев, А. Ф. (2002) «Августин», Августин: pro et contra. Санкт-Петербург: 822-849.
- Писарев, Л. (1894) Учение блж. Августина, епископа Иппонского, о человеке в его отношении к Богу. Казань.
- Селиверстов, В. Л. (2008) Этюды по онтологии Аврелия Августина. Санкт-Петербург.
- Смирнов, Д. В. (2009) «Индивид», Православная энциклопедия. Т. 22. Москва: 526-547
- Флоровский, Г., прот. (1931) Восточные Отцы IV века. Париж.
- Флоровский, Г., прот. (1998) «Блаженство страждущей любви (к 100-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского)», Из прошлого русской мысли. Москва: 68-73.
- Флоровский 1998 (1) -Флоровский Г., прот. (1998) «Противоречия оригенизма», Догмат и история. Москва: 293-302.
- Флоровский 1998 (2) -Флоровский, Г., прот. (1998) «Смысл истории и смысл жизни», Из прошлого русской мысли. Москва: 104-123.
- Флоровский 1998 (3) -Флоровский Г., прот. (1998) «Тварь и тварность», Догмат и история. Москва: 108-150.
- Фокин, А. Р. (2005) Латинская патрология. Т. 1. Москва. Четвериков, И. П. (1904) О Боге как Личном существе. Киев.
- Четвериков, И. П. (1905) «Учение о личном Боге с точки зрения этической ценности», Труды Киевской духовной Академии. № 5. Киев: 1-12.
- Штайн, О. А. (2012) Маска как форма идентичности. Санкт-Петербург.
- Armstrong, A. H. (1977) “Form, Individual and Person in Plotinus”, Dionisius 1, 49-68.
- Attwater, D., ed. (1957) A Catholic Dictionary. Routledge & Kegan Paul.
- Ayres, L. (2004) Nicaea and its Legacy: An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology. Oxford University Press.
- Ayres, L. (2000) “Remember That You Are Catholic (serm. 52. 2): Augustine on the Unity of the Triune God”, Journal of Early Christian Studies 8.1, 39-82.
- Ayres 2004 (1) -Ayres, L. (2004) “The Grammar of Augustine's Trinitarian Theology”, Nicaea and its Legacy: An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology. Oxford University Press: 364-383.
- Bailey David Roy Shackleton, trans. (2006) Quintilian “Declamationes”, Quintilian. The Lesser Declamations. Vol. II. Harvard University Press.
- Bailey David Roy Shackleton, trans. (2001) Quintilian “Institutio Oratoria”, The Orator’s Education. Vol. I. III, IV, V. Harvard University Press.
- Balthasar, H. (1976) On the Concept of Person. Platonica Minora. Munich: Fink.
- Bamford, N. (2012) Deified Person. A Study of Deification in Relation to Person and Christian Becoming. University Press of America.
- Barnes, M. (1995) «Augustine in Contemporary Trinitarian Theology», Theological Studies 56, 237-250.
- Barth, K. (1975) Church Dogmatics. T&T Clark. Vol. I, IV.
- Bengtsson, J. (2006) The Worldview of Personalism: Origins and Early Development. Oxford University Press.
- Bennet, B. (2010) «The Person Speaking: Prosopopoeia as an Exegetical Device in Didymus the Blind's Interpretation of Romans», Studia patristica. V. XLVII. Leuven -Paris -Walpole, MA: Peeters: 173-177.
- Brunner, E. (1949) The Christian Doctrine of God. Vol. I. London.
- Braaten, Carl E., Jensen W., eds. (1946, 1952, 1971, 1973, 1984) Christian Dogmatics. Philadelphia.
- Clark, Ec. (1965) History of Roman Private Law. New York.
- Clark, M. T. (2001) «De Trinitate», The Cambridge Companion to Augustine. Cambridge University Press: 91-102.
- Crouse, R. (1981) «In Multa Defluximus: Confessions X, 29-43, and St. Augustine’s Theory of Personality», Neoplatonisn and Early Christian Thought. Variourum: 180-185.
- Daley, B. (2006) “One Thing and Another. The Persons in God and the Person of Christ in Patristic Theology”, Pro Ecclesia 15, 17-46.
- Donaldson, S. A. (1909) Church Life and Thought in North Africa. Cambridge.
- Dorner, I., Lindsay, А., Worthington, S. (1862-1865, 1868-1869, 1880-1897) History of the Development of the Doctrine of the Person of Christ.
- Edinburg. Dunn, G. D. (2004) Tertullian. The Early Church Fathers. London and New York.
- Evans, E. (1972) Tertullian: Adversus Marcionem. Oxford, Clarendon Press.
- Evans, E. (1948) Tertullian’s Treatise against Praxeas. London, SPCK.
- Evans, E. (1956) Tertullian’s Treatise on the Incarnation. London, SPCK.
- Evans, E. (1960) Tertullian’s Treatise on the resurrection. London, SPCK.
- Fortman, E. J. (1972) The Triune God. A Historical Study of The Doctrine of the Trinity. Hutchinson & Co LTD.
- Glare, P. G. W., ed. (1990) Oxford Latin Dictionary. Clarendon Press. Oxford.
- Glover, T. R. (1909) The Conflict of Religions in the Early Roman Empire. London. Methuen.
- Greenslade, S. L. (1956) Early Latin Theology. The Library of Christian Classics. Vol. 5. London, SCM.
- Grillmeier, A. S. (1965 (1975)) Christ in Christian Tradition. London &Oxford, Mowbrays.
- Gunton, C. E., ed. (1997) The Cambridge Companion to Christian Doctrine Cambridge University Press.
- Hakkert Verlag Adolf M., hrsg. (1965) Cicero “De Oratore”. Buch 2, 3. Amsterdam. Harnack, A. (1893) Dogmengeschichte. Vol. 1. Berlin.
- Hasker, W. (2010) «Objections to Social Trinitarianism», Religious Studies. Issue 04, December. V. 46: 421-439.
- Henry, P. (1960) Saint Augustine on Personality. New York.
- Heron, Alasdair I. C., ed. (1989) «The Forgotten Trinity. The Report of the BBC Study Commission on Trinitarian Doctrine Today», The British Council of Churches 1, 19-25.
- Hunter, S. (1898, 1899, 1900) Outlines of Dogmatic Theology. Vol. I, II, III. London, New York, Bombay.
- Illingworth, R. (1894) Personality, Human and Divine. Bampton Lectures for 1894. London.
- Knight, G. A. F. (1959) A Christian Theology of the Old Testament. London. SCM Press.
- Koterski, J. (2004) «Boethius and the Theological Origins of the Concept of Person», American Catholic Philosophical Quarterly 78.2, 203-224.
- Lawrence, B. P. (1980) “On Keeping «Persons» in the Trinity: a Linguistic Approach to Trinitarian Thought”, Theological Studies 41.3, 530-548.
- Lewis, C. T., Short C. (1951) A Latin Dictionary. Oxford.
- Lienhard, J. T. (1999) «Ousia and Hypostasis: The Cappadocian Settlement and the Theology of One Hypostasis», The Trinity. An Interdisciplinary Symposium on the Trinity. Oxford University Press: 99-121.
- Marcello la Matina. (2010) «Analytic Philosophy of Language and the Revelation of Person. Some Remarks on Gregory of Nyssa and Maximus the Confessor», Studia patristica V. XLVII. Leuven -Paris -Walpole, MA: Peeters: 77-83.
- Marsh, C. (2002) “In defense of a self: the theological search for a postmodern identity”, Scottish Journal of Theology 55.3, 253-282.
- Maspero, G. (2007) Trinity and Man. Gregory of Nyssa’s Ad Ablabium. Leiden, Boston.
- McCall, T. (2009) «Theologians, Philosophers, and the Doctrine of the Trinity», Philosophical and Theological Essays on the Trinity. Oxford University Press: 336-349.
- McDougall, J. A. (2005) Pilgrimage of Love. Moltmann on the Trinity and Christian Life. Oxford University Press.
- McGrath, A. E. (1993 (1996, 2001, 2007, 2011)) Christian Theology. Blackwell Publishing.
- Milano, A. (1987) La Trinitа dei teologi e dei filosofi. L’intelligenza della persona di Dio. Napoli.
- Moingt, J. S. (1966) Theologie Trinitaire de Tertullien. Paris, Aubier.
- Moltmann, J. (1991) History and the Triune God. Contributions to Trinitarian Theology. SCM Press.
- Morgan, J. (1928) The Importance of Tertullian in the Development of Christian Dogma. London.
- Kegan Paul. Muller-Fahrenholz, G. (2000) The Kingdom and the Power. SCM Press.
- Nedoncelle, M. (1960) Is There a Christian Philosophy? Burnes & Oates.
- Nedoncelle, M. (1948) «Prosopon et persona dans l’antiquité classique», Revue des sciences religieuses 22, 277-299.
- Norris, R. A. (1966) God and World in Early Christian Theology. Adam & Charles Black.
- O’Collins, G. (1999) «The Holy Trinity: The State of the Questions», The Trinitу. An Interdisciplinary Symposium on the Trinity. Oxford University Press: 1-25.
- O’Collins, 1999 (1) -O’Collins G. (1999) The Tripersonal God. London, New York, Continuum.
- Olssen, W. (1884) Personality: Human and Divine. London, Suttaby and Co. Amen Corner.
- Ormerod, N. (2005) The Trinity. Retreiving the Western Tradition. Marquette University Press.
- Osborn, E. (1997) Tertullian, First Theologian of the West. Cambridge University Press.
- Patterson, L. G. (1967) God and History in Early Christian Thought. London.
- Inwagen, P., Zimmerman D. ed. (2007). Persons: Human and Divine. Oxford.
- Peters, T. (1993) God as Trinity. Relationality and Temporality in the Divine Life. Westminister/John Knox Press.
- Prestige, G. L. (1952) God in Patristic Thought. London. SPCK.
- Rahner, K. (1963) Theological Investigations. Vol. 2. London.
- Ratzinger, J. (1990) “Concerning the Notion of Person in Theology”, Communio 17, 439-454.
- Rolfe, J. C., ed. (1998) Suetonius. “Nero I”, Suetonius. Vol. II. Harvard University Press.
- Rolfe, J. C., ed. (1998) Suetonius. “Julius”, Suetonius. Vol. I. Harvard University Press.
- Salkowski, C., Whitfield E. (1886) Institutes and History of Roman Private Law with Catena of Texts. London.
- Schaff, P., ed., Haddon, A. W. trans. (1872, 1876) «The Works of Aurelius Augustine» Vol. V, VI, XIIΙ, XIV. Edinburgh.
- Shedd, W. (1888, 1889, 1894) Dogmatic Theology. Vol. I-III. New York.
- Sider, R. D. (1982) «Approaches to Tertullian: A Study of Recent Scholarship», A Journal of Early Christian Studies 2.4, 228-260.
- Slusser, M. (1988) «The Exegetical Roots of Trinitarian Theology», Theological Studies 49, 461-476.
- Sopko, A. (2004) For a Culture of Co-Suffering Love. The Theo-Anthropology of Archbishop Lazar Puhalo. Archive Publications.
- Starnes, C. (1977) «St. Augustine and the Vision of the Truth», Dionisius 1, 85-126.
- Stewart, M. Y. ed. (2003) The Trinity: East/West Dialogue. Kluwer Academic Publishers.
- Stokes, M. C. (1971) One and Many in Presocratic Philosophy. Washington.
- Swinburne, R. (1994) The Christian God. Clarendon Press.
- Swinburne, R. (2009) «The Trinity», Philosophical and Theological Essays on the Trinity. Oxford University Press: 19-37.
- Teichman, J. (1985) «The Definition of Person», Philosophy 60, 175-185.
- Terence, I. (1989) A History of Western Philosophy: Classical Thought. Oxford University Press.
- Torrance, T. F. (1996) The Christian Doctrine of God. One Being Three Persons. Edinburgh, T&T Clark.
- Wainwright, G. (1996) «Back to the Future», The Future of Theology. Essays in Honor of J. Moltmann. USA, Wm. B. Eerdmans Publishing: 89-97.
- Warfield, B. B. (1905-1906) «Tertullian and the Beginnings of the Doctrine of the Trinity», The Princeton Theological Review 4 (October) 529-557, 2 (April) 145-167.
- Waszink, J. N. (1947) Tertullian, De Anima. Amsterdam.
- Welker M. (1996) «Christian Theology: What Direction at the End of the Second Millennium?», The Future of Theology. Essays in Honor of J. Moltmann. USA, Wm. B. Eerdmans Publishing: 73-88.