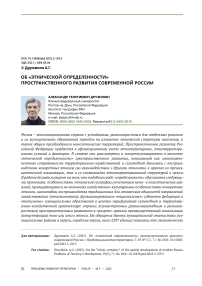Об «этнической определенности» пространственного развития современной России
Автор: Дружинин А.Г.
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Пространственное развитие
Статья в выпуске: 5 т.29, 2025 года.
Бесплатный доступ
Россия – многонациональная страна с устойчивым, разноскоростным для отдельных регионов и их муниципальных образований трендом на изменение этнической структуры населения, а также общим преобладанием моноэтнических территорий. Пространственное развитие Российской Федерации нуждается в сфокусированном учете этноструктурных, этнотерриториальных условий и факторов. В статье они рассмотрены и концептуализированы в качестве «этнической определенности» пространственного развития, понимаемой как многокомпонентная сопряженность территориально-хозяйственной и селитебной динамики с воспроизводством конкретных этносов (во взаимодействии с другими этносами) в ареалах их преимущественной локализации, так и со сложившейся этнотерриториальной структурой в целом. В работе делается акцент на том, что подобного рода «определенность» обусловлена следующими причинами: особенностями этнической географии (сочетанием моно- и полиэтнических ареалов); проецирующимися на экономику хозяйственно-культурными особенностями конкретных этносов, масштабом воспроизводства традиционных для этнических общностей направлений хозяйствования (этноэкономики); функционированием «национальных» субъектов федерации и «титульных» муниципальных образований в центро-периферийной селитебной и территориально-хозяйственной архитектуре страны; асимметричным (разномасштабным и разноскоростным) пространственным развитием в «разрезе» ареалов преимущественной локализации (концентрации) того или иного этноса. На обширных данных муниципальной статистики (муниципальные районы и округа, городские округа, всего 2297 единиц) показано, что экономическая активность смещена в муниципалитеты с русской моноэтничностью (1696 единиц, включая 485 городских округов), что объясняется локализацией на этих территориях подавляющей части региональных столиц и их пригородов. Выявлена (на материалах Юга России) выраженная асимметрия в масштабах и уровне хозяйственной активности между поли- и моноэтническими территориями, а также моноэтническими ареалами (кластерами муниципалитетов с однородной этнической структурой населения) с различной «этнической окраской». Обосновано, что ни полиэтничность, ни моноэтничность напрямую не влияют на экономическую активность, в то время как последняя, концентрируясь в крупнейших городах и их агломерациях, благоприятствует нарастанию полиэтничности.
Пространственное развитие, расселение этносов, этническая структура, этнический фактор, территориальные экономические различия, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/147251817
IDR: 147251817 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/ptd.2025.5.139.5
Текст научной статьи Об «этнической определенности» пространственного развития современной России
Россию принято идентифицировать в качестве государства многонационального. Эта основополагающая характеристика не только напрямую зафиксирована в действующей Конституции страны (Ст. 68, п. 1)1, но и имеет четкое статистическое обоснование (Всероссийская перепись населения 2020 года охватывает данные по 197 отдельным этносам). Наглядным подтверждением укорененного в общественном дискурсе (Тишков, 2013) понимания по-лиэтничности государства выступает сетка политико-территориального деления, в основных чертах оформившаяся еще в первой половине XX столетия, когда «национальный фактор» рассматривался как предельно значимый при экономическом районировании, к которому, в свою очередь, «привязывалась» система управления (Книпович, 1921). Указание на особый («титульный») статус конкретного этноса
(этносов) имеет место в официальных названиях 25 современных регионов Российской Федерации, 10 из них отнесены ныне к числу «геостратегических территорий».
Тем не менее при более детализированном рассмотрении пространственных реалий многонациональная Россия предстает интегрированной мозаикой поли- и моноэтнических территорий , причем именно последние существенно превалируют по размерам, в демографическом и экономическом отношении. Из 85 российских регионов, охваченных Всероссийской переписью населения 2020 года2, в 58 удельный вес русских превышает средний показатель по стране (80,8% от числа лиц, указавших национальную принадлежность), а в 15 доля русских варьирует в диапазоне от 50 до 80%. Менее половины она составляет лишь в 12 субъектах РФ, на которые приходится 21,3% территории страны, 12,2% ее демографического потенциала и 7,9% суммарного ВРП3.
Более дробный анализ (в разрезе городских округов, муниципальных районов и муниципальных округов, всего 2297 единиц) свидетельствует о приуроченности к ареалам Российской Федерации с русской моноэтничностью, диагностируемой при доле русских в населении 75% и выше (Дружинин, 2024а), 49% ее территории, где проживает 80,3% населения страны и 90,6% представителей русского этноса.
Русская моноэтничность, будучи в пространственном отношении асимметричной, размыта по периферии и отчасти в своих урбанистических ядрах дополняется множественными локализованными группировками муниципальных образований с численным превалированием иных этносов. В частности, в Иркутской области, где доля русских составляет 92,2%, из 42 муниципалитетов «второго уровня» в пяти численно преобладают буряты, причем имеет место и более дробная дифференциация. Например, в Ольхонском муниципальном районе (преимущественно «бурятском») из семи сельских поселений буряты численно превалируют в трех, русские – в трех и в одном имеет место этнодемографический паритет. Аналогичного рода усложненная этногео-графическая мозаика характерна для подавляющей части так называемых «национальных» субъектов федерации.
Этническое (национальное) многообразие России имеет, таким образом, выраженную территориальную специфику, предопределяющую в конечном итоге устойчивую сопряженность развития этносов (в хозяйственном, социокультурном, демографическом аспектах) с проблематикой пространственного развития , понимаемого, согласно «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» (далее – СПР-2025), как «совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной государственной политики регионального развития»4. Симптоматично, что в тексте самой СПР-2025, как показал семантический анализ, категории «этнос», «этнический», а также «народ» в качестве синонима «этноса» занимают практически периферийное место. В еще меньшей мере они применяются в действующей с конца декабря 2024 года «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года» (далее – СПР-2036) ( табл. 1 ).
Если в СПР-2025 упоминается «учет этнокультурного фактора при обеспечении социально-экономического развития РФ» (наряду с «сохранением национальной идентичности народов РФ», «обеспечением
Таблица 1. Число использований некоторых базовых категорий пространственного анализа в стратегиях пространственного развития Российской Федерации (СПР), принятых в 2019 и 2024 гг.
|
Категория |
СПР-2025 |
СПР-2036 |
|
Регион (региональный) |
77 |
98 |
|
Центр |
68 |
26 |
|
Опорный (населенный пункт) |
- |
56 |
|
Агломерация |
50 |
40 |
|
Пространственный |
40 |
85 |
|
Муниципальный |
25 |
20 |
|
Национальный (общегосударственный) |
16 |
42 |
|
Этно- (этнический, этнокультурный) |
2 |
1 |
|
Народ (народов) |
5 |
1 |
|
Источник: составлено автором на основе семантического анализа СПР-2025 и СПР-2036. |
||
4 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. URL: http://static. (дата обращения 02.05.2025).
гарантий прав коренных малочисленных народов, включая поддержку их экономического, социального и культурного развития», «содействием сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов» и «природопользованием коренных малочисленных народов»)5, то в СПР-2036 внимание фокусируется лишь на «недопущении возникновения этнических анклавов», а также на «развитии народнохудожественных промыслов» (последнее – применительно к Северо-Кавказскому федеральному округу)6.
Подобная показательная «внеэтнич-ность» базового в сфере пространственного развития федерального нормативного документа отражает, полагаем, предельную сложность и самостоятельную значимость вековечного для России «национального вопроса», в последние годы все заметнее вновь выходящего на авансцену в связи с возросшей геополитической турбулентностью, международными миграциями, а также разнонаправленной этнодемографической динамикой. Она иллюстрирует сложившийся параллельно в системе управления и профильном научном сообществе дефицит понимания места и роли «этнической составляющей» в структурах и процессах, исследуемых в настоящее время «на стыке» пространственной экономики и социальноэкономической географии. Впрочем, еще в 1941 году было подмечено, что «рассмотрение хозяйства в национальных областях и республиках в наших курсах совершенно обезличено и не связано конкретно с населяющими их народами» (Кабо, 2016, с. 135). Тезис этот, полагаем, и поныне сохраняет свою актуальность.
В понимании взаимообусловленности «этнического» и «экономического» имеются, тем не менее, множественные содержательные заделы. Во-первых, это неизменно высвечиваемый этнический аспект (фак- тор) экономики в работах таких ведущих экономистов, как Л. Вальтман, М. Вебер, Дж. С. Милль, Х. Шрайдер и Й. Шумпетер, что ранее детально показано в специальных обзорах (Печура, 2009; Попков, Тюгашев, 2018; Минат, 2022). Этот интеллектуальный тренд в настоящее время развивают эволюционногенетический и институциональный подходы экономического анализа (Архипов и др., 2020; Аузан, Никишина, 2021).
Зеркальный в предметно-содержательном отношении аспект рассматриваемой проблематики (экономический компонент этнологии) связан с представлениями о «хозяйственно-культурных типах» (Левин, Чебоксаров, 1955), взаимообусловленностью этноса и экономики (Козлов, 1994), подходами в области так называемой «экономической этнологии» (Семенов, 1993).
В первые постсоветские годы на фоне радикальных структурных изменений в системе хозяйствования и эскалации регионализма с сопутствующей этнополитической активностью фактической результирующей синтеза двух вышеперечисленных подходов оказались представления об «этнической экономике», или «этноэкономике» – реальности сложно диагностируемой, разнопланово трактуемой и отождествляемой прежде всего именно с российскими «национальными» территориями (Овчинников, Колесников, 2006; Римашевская, Вершинская, 1999).
Немногим ранее проблематика «этнической экономики» (Ethnic Economy) была заявлена на Западе (Waldinger, 1986; Light, 2000), где в логике глобализации основной упор делался на учет проекции нарастающего во множестве локалитетов этнического многообразия на экономическое развитие (Easterly, Levine, 1997; Collier, 2001; Montalvo, Reynal-Querol, 2021), своего рода «экономике культурного разнообразия» (Bellini et al., 2013; Nijkamp et al., 2015). Данная тематика вызвала интерес и в Российской Федерации, воплотившись в исследования экономических эффектов национальной неоднородности (Цапенко, 2016; Буфетова, Коломак, 2021), воздействия международных миграций на производительность труда (Несена, 2015), экономических «рисках моноэтнич-ности» (Тарбастаева, 2018). На этом фоне симптоматично прорисовывалось восприятие (характерное и значимое) самой экономики как «разноцветной», национально «окрашенной» (Крюков, 2017). Проявились попытки сопряженного исследования этнической структуры территории, в том числе в муниципальном «разрезе», и параметров ее экономического развития (Дружинин, Потапенко, 2024).
Наработанный позитив многоаспектного осмысления взаимовлияния «этнического» и «экономического» ограничивается, тем не менее, недостаточным учетом собственно пространственных процессов и структур как в локализации этносов (этногеографии), так и в хозяйственной активности и расселении. Данная статья – это попытка сформировать концептуальную рамку для дальнейшей активизации исследовательских усилий в этой значимой сфере. Основной ее целевой ориентир состоит в разработке представления об особом феномене, обозначенном как «этническая определенность пространственного развития», о его детерминантах, специфике и форматах проявления. Предлагая данный терминологический конструкт, автор учитывал как уже оформившуюся практику применения категории «этническая определенность» в антропологии и этнологии в значении прежде всего этнической идентичности, отнесения к определенной этнической группе (Алексеев, 1989; Арутюнов, Рыжакова, 2004), так и необходимость (практическую и теоретическую) аналогичного рода идентификации и параметризации структур и процессов, изучаемых пространственной (региональной) экономикой, социально-экономической (общественной) географией, а также этногеографией на их принципиально значимом предметно-содержательном «стыке».
Локализация российских этносов: универсальное и специфическое
Базовым основанием «этнической определенности» пространственного развития выступает локализация этносов, подчиняющаяся единым структурным особенностям и закономерностям, но одновременно в каждом конкретном случае зависящая от уникального «набора» исторических, демографических, природно-хозяйственных и социокультурных обстоятельств.
В логике дихотомий «концентрация – дисперсия», «центр – периферия» и «ядро – граница» пространство локализации любого этноса объединяет:
– моноэтнический ареал расселения;
– основной ареал локализации, наряду с моноэтническим ареалом включающий селитебно и социально-экономически значимые для этноса полиэтнические территории, прежде всего урбанизированные;
-
– очаги локализации за пределами основного ареала;
-
– ареал преимущественной дисперсии;
– пространство дисперсии (Дружинин, 2024b).
Многонациональная страна, равно как тот или иной ее регион, являет при этом сложные разномасштабные взаимные наслоения и пересечения «освоенных» этническими общностями пространств. Эффекты «этнической определенности» в этой ситуации возникают главным образом в связи с фактическим формированием мозаики моноэтнических ареалов (отличающихся условиями хозяйствования и в целом жизнедеятельности), дополняемой «стягиванием» представителей тех или иных этносов в ведущие урбанистические центры и организуемые ими городские агломерации.
Ареалы с выраженной моноэтничностью множественны и разноразмерны. В российской ситуации они не сводимы к «национальным» субъектам федерации, тем более к тем республикам и автономным округам, в населении которых превалирует русский этнический компонент (в Республике Карелии, например, доля собственно карел – 4,9%, причем лишь в Олонецком му- ниципальном районе она немного превышает 40%; во всех остальных – существенно ниже). Но даже в регионах, где русские численно уступают «титульной» нации, не вся территория может быть идентифицирована как «моноэтническая». Так, в КабардиноБалкарской Республике в двух из 13 муниципальных образований (Майский и Прохладненский муниципальные районы) более половины населения составляют русские. Схожая ситуация наблюдается в Моздокском районе Северной Осетии. В Карачаево-Черкесской Республике «русскими» по превалирующей национальности являются Урупский и Зеленчукский муниципальные районы (доля русских – 73,7 и 56,3% соответственно). В структуре этой республики представлены и два мононациональных и «титульных», но иноэтнических по отношению как к карачаевцам, так и черкесам, муниципальных района: Абазинский (88,5% населения – абазины) и Ногайский (ногайцы – 84,9%). Строго говоря, в пределах Российской Федерации лишь Республику Ингушетию и Чеченскую Республику уместно рассматривать (в муниципальном разрезе) как компактные моноэтнические ареалы.
Присущие некоторым наиболее крупным по численности этносам ареалы моноэтничности демонстрируют межрегиональный характер. Таковыми они являются не только для русских, но и для татар, численно преобладающих в 31 муниципальном образовании Татарстана и 4 – в Башкортостане. Преимущественно «бурятские» муниципалитеты характерны и для Республики Бурятии, и для Иркутской области. Некоторые этносы, лишенные «собственных» моноэтнических муниципалитетов (и их кластеров), также формируют ареалы (в том числе весьма обширные) своего приоритетного размещения. Таковы, в частности, армяне, распределенные в большой мере между Краснодарским и Ставропольским краями (22 и 15% всех армян страны), Ростовской областью (9%) и Москвой с Московской областью (15%).
Этносистемы «село – город» как компонент пространственного развития
Для значительной части российских этносов (башкиры, чеченцы, аварцы, даргинцы и др.) характерно преимущественное постоянное проживание в сельской местности и, соответственно, аграрная специфика присущих им моноэтнических территорий. Но в структуре современного расселения эти этносы неизбежно сопряжены с городскими центрами. А города, как еще в 1913 году подчеркивал В.И. Ленин в работе «Критические заметки по национальному вопросу», «отличаются наиболее пестрым национальным составом населения. Отрывать города от экономически тяготеющих к ним сел и округов из-за «национального» момента нелепо и невозможно» (Ленин, 1973, с. 149). Единство городских поселений с прилегающими аграрными территориями, обозначенное нами ранее как этносистема «село – город » (Дружинин, 2024b), имеет для превалирующих в сельской местности этносов приоритетное социально-экономическое значение, «этническую определённость» обретает при этом весь соответствующий сельско-городской континуум. Наиболее наглядным примером здесь выступает Республика Дагестан ( табл. 2 ), хотя аналогичного рода ситуация прослеживается в ряде других регионов России.
Компактные этносистемы «село – город» имеются у табасаран (Табасаранский и Хивский муниципальные районы + городской округ Дагестанские огни, в котором доля табасаран составляет 51,2%), кумыков (Махачкала и примыкающие к ней муниципальные районы), лакцев (Лакский и Новолакский районы + Махачкала), а также у весьма многочисленной на территории Республики Дагестан азербайджанской диаспоры (из 117 тыс. проживающих в Дагестане азербайджанцев 43 тыс. сконцентрированы в Дербенте и еще 50 тыс. – в Дербентском муниципальном районе).
«Этническая определенность» пространственного развития предопределяется, в итоге, особенностями этногеографии, кор-
Таблица 2. Крупнейшие «этнические кластеры» муниципальных районов и сопряженные с ними городские центры Республики Дагестан
|
Показатель |
«Этнические кластеры» муниципальных районов |
||
|
аварский |
даргинский |
лакский |
|
|
Моноэтнические муниципальные районы (число представителей этноса, тыс. чел. / доля этноса, %) |
Ахвахский (24 / 99,6), Ботлихский (58 / 99,0), Гергебильский (19 / 96,3), Гумбетовский (21 / 99,6), Гунибский (28 / 96,2), Казбековский (43 / 87,3), Кизилюртовский (63 / 84,9), Тляратинский (23 / 99,4), Унцукульский (31 / 99,3), Хунзахский (30 / 95,6), Цумадинский (26 / 99,1), Цунтинский (21 / 98,6), Чародинский (14 / 98,0), Шамильский (30 / 98,6) |
Акушинский (52 / 96,6), Дахадаевский (36 / 99,6), Кайтагский (30 / 91,2) Левашинский (62 / 78,2), Сергокалингский (26 / 99,0) |
Ахтынский (31 / 98,5), Докузпаринский (14 / 94,6), Магараметкентский (53 / 95,3), Сулейма-Стальский (57 / 99,1) |
|
Полиэтнические городские округа (число представителей этноса, тыс. чел. / доля этноса, %) |
Махачкала (190 / 25,6), Буйнакск (25 / 39,1), Кизилюрт (36 / 73,4), Хасавюрт (73 / 47,9), Южно-Сухокумск (4 / 44,4) |
Махачкала (115 / 15,5), Избербаш (37 / 66,1) |
Дербент (44 / 36,4), Каспийск (37 / 31,3), Махачкала (103 / 13,9) |
|
Общая численность представителей этноса в пределах этносистемы «село – город», тыс. чел. |
759 |
358 |
339 |
|
Доля представителей этноса, локализованных в пределах этносистемы «село – город», к общей численности представителей этноса в Дагестане, % |
79,3 |
339 |
81,5 |
Составлено по: данные Всероссийской переписи населения 2020 года.
ректируется и задается политико-географическими обстоятельствами (соответствующими муниципальными образованиями, субъектами федерации, их «титульностью»), форматируется структурой расселения. В не меньшей мере присуща «этническая определенность» и экономике, также являющей масштабные различия «от места к месту», в том числе в «разрезе» ареалов приоритетной локализации тех или иных этносов.
Этнически «окрашенная» экономика: пространственные детерминанты и особенности
Экономическое развитие неизменно приурочено к определенным структурам пространства. Как справедливо подчеркивал П.А. Минакир, «при принятии любого решения в экономике… приходится отвечать на вопрос не только «что» и «сколько», но и на вопрос «где» (Минакир, 2005). Латентно, разумеется, существует и столь же существенный вопрос «кто», имеющий, как и «где», свои вполне различимые национальные (этнические) параметры и характеристики.
Территории с определенной этнической (этноконфессиональной) структурой могут, в частности, «притягивать» те или иные виды хозяйственной активности, обретая свойства, совокупность которых уместно очертить категорией этноэкономический ареал .
Показательно, в частности, что 38% имеющегося в современной России поголовья овец размещено в регионах с численным превалированием представителей этносов, традиционно приверженных исламу, а еще 29% локализовано на сопредельных терри- ториях (Ставропольский край, Ростовская область, Республика Калмыкия и др.), где в овцеводстве также существенна роль соответствующих этнических общностей, что порождает специфику этнической структуры муниципалитетов со специализацией на пастбищном животноводстве (в Ремонтненском муниципальном районе Ростовской области 16% населения составляют даргинцы и 7,3% – чеченцы; в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края 29% населения – даргинцы; в Ики-Бурульском районе Калмыкии – 18% и т. д.).
Более 90% всего поголовья оленей в России находится именно в Арктической зоне7, составляя эксклюзивную в общефедеральном масштабе сферу экономической активности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также части проживающих в соответствующих природно-хозяйственных условиях якутов. Природный фактор, в итоге, воплощается в хозяйственно-культурной традиции, а его экономическое использование оказывается сопряженным с этнодемогра-фическими особенностями территории.
В этом же контексте уместно вести речь не только об этнических традициях и предпочтениях в хозяйственной сфере, но и о тех или иных «нишах» (подчас условных, ситуационно-конъюнктурных), занимаемых конкретным этносом в экономике (определенные ремесла, торговля, общественное питание, строительство и т. п.). Значительная часть подобных «ниш» может быть реализована исключительно в межэтническом взаимодействии, что инициирует нарастание полиэтничности (в крупнейших городах и их пригородах, в местах крупного индустриального и инфраструктурного строительства, очагах освоения ресурсного потенциала севера и востока страны), поддерживаемое не только безвозвратными миграциями, но и инвариантами «отходничества». Складывающиеся в результате элементы этнической анклавности – прямое порождение социально-территориальных контрастов – предопределяют, в свою оче- редь, «вторичное», уже напрямую связанное с обществом, его территориальной организацией, обособление новых этноэкономи-ческих ареалов.
Иная сторона «этнически окрашенной» экономики – приуроченность не только отдельных производств и отраслей, но и в целом хозяйственной активности к тем или иным территориям, характеризуемым численным превалированием конкретного этноса.
В Российской Федерации, в частности, исторически, равно как и в силу природных обстоятельств, вся система хозяйствования, а соответственно, и расселение ощутимо «смещены» в территории с русской моно-этничностью. В общероссийском масштабе плотность населения в муниципальных образованиях с долей русских 75% и более в 2,9 раза превышает аналогичный показатель по муниципалитетам, в которых доля русских менее 25%. Аналогичное соотношение наблюдается по душевым значениям налогооблагаемых денежных доходов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, показатель которого, позволяющий наиболее полно идентифицировать локализованную экономическую активность, составляет 2,5 раза, а их «плотности» (на единицу территории) – 7,3 раза, что высвечивает как «освоенческие» векторы пространственного развития, так и его центро-периферийные градиенты.
Наиболее четко пространственный аспект «этнической определенности» экономики иллюстрируют так называемые «перспективные центры экономического роста Российской Федерации» (на идентификацию и приоритизацию которых была нацелена СПР-2025). Как свидетельствует авторский анализ, из 101 упомянутого в тексте СПР-2025 «перспективного центра» в 78 доля русских в населении превышает 75%-й рубеж, лишь в трех (Грозный, Магас и Кызыл) имеет место моноэтничность иных этносов, в остальных 20, большинство из которых в масштабе страны не являются экономическими лидерами, структура населения характеризуется полиэтничностью ( табл. 3 ).
Таблица 3. Перспективные центры экономического роста Российской Федерации: группировка по этнической структуре
|
Основные группы |
Общее число |
В том числе |
||
|
С «русской моноэтничностью» (доля русских 75% и выше) |
Полиэтнические |
Моноэтнические, с незначительным % русских в населении |
||
|
Перспективные крупные центры экономического роста Российской Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост Российской Федерации более 1% ежегодно |
||||
|
города, образующие крупные городские агломерации и крупнейшие городские агломерации |
20 |
17 |
3 |
– |
|
Перспективные центры экономического роста субъектов Российской Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост Российской Федерации от 0,2 до 1% ежегодно |
||||
|
города и прилегающие к ним муниципальные образования с общей численностью населения более 500 тыс. человек |
25 |
22 |
3 |
– |
|
города с общей численностью населения менее 500 тыс. человек |
25 |
23 |
2 |
– |
|
Перспективные центры экономического роста субъектов Российской Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост Российской Федерации до 0,2% |
||||
|
города, являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации и прилегающие к ним муниципальные образования с общей численностью населения менее 500 тыс. человек |
31 |
16 |
12 |
3 |
|
Составлено по: данные Всероссийской переписи населения 2020 года и СПР-2025. |
||||
Показательно также, что из 20 «перспективных центров экономического роста, в которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня» лишь два (Казань и Уфа) имеют иную этническую структуру, чем «русская моноэтничность».
Сложившаяся «этническая определенность» в пространственном развитии в целом достаточно устойчива и обеспечивается не только обстоятельствами исторической колеи, но и характерным для всего постсоветского периода (Стрелецкий, 2011; Манаков, 2019) процессом «стягивания» российских этносов на «свою» территорию, что консервирует и усиливает ее моноэт-ничность. Имеющие место некоторые пространственные перебалансировки связаны с реализаций крупных инвестиционных проектов, с геополитическими резонами и в еще более очевидной мере с этнотерри-ториальными различиями в демографических трендах. Например, на долю Дагестана, в частности, в 1995 году приходилось 1,5% населения России и 0,3% ее ВРП, в то время как к настоящему времени эти показатели возросли до 2,2 и 0,65% соответственно8.
Фактор моно- и полиэтничности в территориально-хозяйственном развитии
Вопрос о степени и векторе воздействия особенностей этноструктуры, в первую очередь феномена полиэтничности, на пространственное развитие уже многократно озвучен в российском дискурсе (Цапенко, 2016; Буфетова, Коломак, 2021; Минат, 2022) и, полагаем, не имеет однозначного ответа.
Осмысливая сопряженность дихотомии «моно- / полиэтничность» с экономическим развитием территорий, важно различать прежде всего полиэтничность городов
(и прилегающих территорий), а также поли-этничность внегородских пространств. Учет ситуации в последних не позволяет, кстати, уверенно говорить о наличии некоего позитивного экономического «эффекта поли-этничности». Так, в Ростовской области полиэтнический Мартыновский район почти в 1,5 раза уступает по душевым налогооблагаемым доходам соседнему с ним моноэтническому (86,4% русских) Семикаракорскому району. В Астраханской области у полиэтнического Харабалинского района данный показатель аналогичен показателю моноэтнического (русского) Черноярского района, а резкое экономическое лидерство на их фоне Красноярского муниципального района (52,2% населения – казахи) предопределено локализованной активностью ООО «Газпром добыча Астрахань».
Города, особенно крупные, выступающие в том числе региональными центрами, притягивая иноэтническую миграцию, не всегда «более полиэтничны», чем приле- гающая сельская местность, но неизменно лидируют при этом по параметрам хозяйственной активности. Как свидетельствует муниципальная аналитика по Югу России (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа), именно фактор крупных городов и их сохраняющегося индустриального функционала предопределяет повышенные душевые доходы на территориях с русской моноэтничностью, особенно там, где доля русских варьирует в диапазоне от 75 до 95%, то есть несколько «размыта» пролонгированной иноэтнической миграцией (табл. 4).
В северокавказских республиках, кроме Ингушетии и Чечни, ведущие города выступают, кроме того, центрами двух и более этносистем «село – город» (кабардинской, балкарской и русской в Нальчике и др.), что само по себе предопределяет полиэтнич-ность. Разумеется, имеют место и выраженные различия между полиэтническими урбанистическими центрами и фактически
Таблица 4. Распределение параметров территориального, демографического и экономического потенциала Юга России по моно- и полиэтническим муниципальным образованиям, 2021 год, %
|
Территория (группировка муниципальных образований) Юга |
Доля муниципальных образований, % |
|||
|
в площади территории |
в численности населения |
налогооблагаемых денежных доходах физических лиц |
в социальных и других выплатах |
|
|
Моноэтнические «русские» (доля русских в населении 75% и более), в том числе |
52,4 |
63,9 |
80,2 |
66,4 |
|
территории с 95%-й и более долей русских в населении |
14,2 |
15,9 |
15,8 |
17,5 |
|
иные моноэтнические «русские» территории (с весомыми иноэтническими «вкраплениями») |
38,2 |
48,0 |
64,4 |
48,9 |
|
Иноэтнические с долей численно превалирующего этноса в 75% и более), в том числе |
9,5 |
13,9 |
5,6 |
13,5 |
|
чеченские |
2,6 |
5,7 |
2,8 |
6,7 |
|
аварские |
1,3 |
0,9 |
0,3 |
1,3 |
|
даргинские |
0,5 |
0,9 |
0,3 |
0,8 |
|
ингушские |
0,4 |
2,0 |
0,4 |
1,9 |
|
кабардинские |
0,8 |
1,2 |
0,5 |
1,0 |
|
осетинские |
0,9 |
0,7 |
0,2 |
0,8 |
|
карачаевские |
1,0 |
0,4 |
0,1 |
0,3 |
|
Полиэтнические |
38,1 |
22,2 |
14,1 |
20,1 |
Составлено по: данные Всероссийской переписи населения 2021 года, Росстата и Федеральной налоговой службы.
увязанными с ними в единое целое кластерами моноэтнических муниципальных образований. Но в любом случае именно концентрация экономики и населения в ведущих городах и их агломерациях продуцирует элементы полиэтничности, а не наоборот.
Заключение
Присущая Российской Федерации множественность населяющих ее этносов с соответствующими ареалами их локализации, разноразмерными, сочетающими концентрацию с дисперсией, подчас взаимно наслаивающимися, порождает не только повсеместные проявления дихотомии «моноэтничность – полиэтничность», но и характерную для обширных территорий «этническую определенность» в социальноэкономическом развитии. Последнюю целесообразно понимать как многокомпонентную сопряженность территориальнохозяйственной и селитебной динамики с воспроизводством конкретных этносов во взаимодействии с другими этносами в ареалах их преимущественной локализации, так и со сложившейся этнотерриториальной структурой в целом. Подобного рода «определенность» возникает в практически повсеместно имеющих место ситуациях, когда пространственное развитие «окрашено» структурными реалиями этногеографии, и наоборот, последняя создает территориальные и институциональные рамки, делимитирующие и отчасти детерминирующие экономическую активность и расселение.
Учет «этнической определенности» крайне важен в современной России для совершенствования государственного регулирования пространственного развития, в частности для уточнения (и расширения) перечня так называемых «опорных населенных пунктов» с соответствующими «прилегающими территориями». Фактическая мозаика поли- и моноэтнических территорий в их сопряженности и динамике должна обязательным образом учитываться также в качестве одного из факторов и аспектов при по-лимасштабном социально-экономическом районировании страны, по-прежнему со- храняющем свою актуальность (Кузнецова, 2019). Само пространственное развитие призвано способствовать не нарастанию полиэтничности в немногих центрах, не сегрегации и сепарации периферийных, подверженных «моноэтнизации» территорий, а в условиях многонациональной и сложнейшим образом территориально структурированной страны содействовать обеспечению её экономического и селитебного единства на основе интеграции (производственной, инфраструктурной и др.) совокупности фактически сложившихся моно- и полиэтнических ареалов. Устойчивость российского государства в долгосрочной перспективе связана также с сохранением выраженной «русской определенности» в территориально-хозяйственной и селитебной структуре страны, с социально-экономическим развитием ареалов русской моноэтничности, многие из которых, к сожалению, справедливо характеризуются географами-обществоведами как «внутренняя периферия» (Каганский, 2012).
Решая задачи территориального социально-экономического «выравнивания» и обязательным образом учитывая в связи с этим этнодемографические особенности «от места к месту», важно одновременно не допускать любого рода государственных преференций именно по «этническому признаку». Более столетия назад В.И. Ленин отметил: «Проблема охраны прав национального меньшинства разрешима только… в последовательно-демократическом, не отступающем от принципа равноправия, государстве» (Ленин, 1973, с. 143). Необходимое, ранее четко артикулируемое, в том числе на высшем государственном уровне, «национальное равноправие во всех его видах» (Сталин, 1946), должно достигаться, как видится, не игнорированием и замалчиванием «этнического фактора» (в том числе в такой сложной и всеобъемлющей сфере, как пространственное развитие), а сфокусированным, сопряженным учетом как этнической структуры той или иной территории, так и трендов и потенциала ее экономического и селитебного развития.