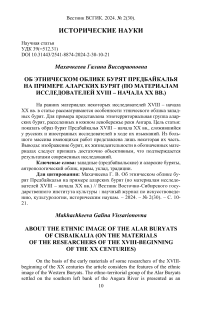Об этническом облике бурят Предбайкалья на примере аларских бурят (по материалам исследователей XVIII - начала XX вв.)
Автор: Махачкеева Г.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 (30), 2024 года.
Бесплатный доступ
На ранних материалах некоторых исследователей XVIII - начала XX вв. в статье рассматриваются особенности этнического облика западных бурят. Для примера представлена этнотерриториальная группа аларских бурят, расселенных в южном левобережье реки Ангара. Цель статьи: показать образ бурят Предбайкалья XVIII - начала XX вв., сложившийся у русских и иностранных исследователей в ходе их изысканий. Из большого массива имеющихся работ представлена лишь некоторая их часть.
Западные (предбайкальские) и аларские буряты, антропологический облик, нравы, уклад, традиции
Короткий адрес: https://sciup.org/170206393
IDR: 170206393 | УДК: 39(=512.31) | DOI: 10.31443/2541-8874-2024-2-30-10-21
Текст научной статьи Об этническом облике бурят Предбайкалья на примере аларских бурят (по материалам исследователей XVIII - начала XX вв.)
Известно, что этнология как наука появилась в 60-е гг. XIX в. и связана с именами Тейлора в Англии, Моргана в Америке и др. [18, с. 177]. Но, согласно данным, обнародованным в 2005 г. на международном симпозиуме в Сургуте, научному миру, в том числе в Западной Европе, совершенно неизвестно о решающем вкладе в раннюю этнографию и этнологию немецких ученых, в частности Герарда Фридриха Миллера (17051783). Также неизвестны обширные этнографические исследования России, начатые совместно с немцами в Сибири в конце XVIII в., в действительности являющиеся началом этнологии как науки. Тем самым в процессе институционализации народоведения немцы и русские опередили другие нации Европы на 100 лет. Процесс выпал из поля зрения, потому что важнейшие источники не были опубликованы. Благодаря этому раннему старту в XIX в. в России уже были не только старейший этнографический музей и самые ранние описания народов, но и первая этнографическая секция географического общества, и первая кафедра этнографии [18, с. 178, 179, 194].
Краткий экскурс в историю Предбайкалья свидетельствует о том, что в России с XVII в. чрезвычайно большое внимание уделялось исследованиям коренных народов Сибири. Это объясняется тем, что ее хозяйственное освоение нуждалось в объективной оценке природных и человеческих ресурсов. Для этнографического исследования приглашались лучшие зарубежные ученые, при этом царь Петр Великий отдавал предпочтение немецким: во-первых, боясь миссионерской деятельности католиков, русские выбирали протестантов; во-вторых, у них было сравнительно хорошее образование. В 1703 г. в Санкт-Петербурге началось немецко-российское сотрудничество, где главную роль играл Г.Ф. Миллер – «отец русской историографии», активно работавший в сфере этнографии Сибири [18, с. 182-183]. Он написал обширную программу описания коренных сибирских народов из 923 пунктов [18, с. 185]. Начало изучения Сибири было широким, охватывающим все направления науки: археология и лингвистика, народная медицина и история, ботаника и зоология, минералогия и этнография и т.д. Благодаря этому подходу сегодня мы имеем уникальный источник, затрагивающий все аспекты жизнедеятельности аборигенов Предбайкалья.
Так какими же увидели исследователи западных бурят, так называемых «брацких»? Изучая их быт, они отмечали умение бурят рачительно хозяйствовать. В 1735 г. И.Г. Гмелин подчеркнул высокий уровень металлообработки у балаганских бурят и описал их способ серебрения и насечки: «умеют выкладывать железо серебром и золотом так красиво, что это выглядит как дамасская работа» [10, с. 160]. О превосходном качестве и художественном мастерстве бурятских изделий И.Г. Георги писал, что они славятся по всей России «под именем брацкой работы» [3, с. 38-39]. Также в 1772 г. он заметил успехи бурят и в хлебопашестве, позже безоговорочно признанные Ренье и Фр. Лангансом [9, с. 5, 7]. А. Миддендорф в 1860 г. восторгался бурятским орошением и удобрением лугов и утугов, приусадебных окультуренных участков, так как в Европе в то время аналогичные агротехнологии отсутствовали [8, с. 694]. Об утужном хозяйстве в дореволюционной печати писали неоднократно, как об особой отрасли, а в 1896 г. оно даже было представлено на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде [1, с. 54]. К тому времени у бурят было уже значительно больше техники, чем у русских и, согласно наблюдениям А.И. Термена, «когда бурят принимается за какую-либо новую для него отрасль труда, он успевает в ней лучше, чем местные русские» [17, с. 94]. Подтверждал это и Н.А. Бестужев: «В Иркутской губернии, кроме здешнего Забайкалья, буряты – настоящие кормильцы хлебом. Того же нельзя сказать о сибиряках-старожилах» [19, с. 17].
Кроме немецких и российских ученых, информацию о коренных народах Сибири собирали и представители административно-фискальных органов непосредственно на местах. Так, из официальных отчетов Аларской Степной думы середины XIX в. о нравах алар-ских бурят известно, что они «в общежитии миролюбивы, трудолюбивы, дружны и ведут жизнь в простоте, праздности не склонны» [5, с. 47]. Через семь лет в тех же отчетах в графе «Нравственность» снова подчеркивается: «к пьянству не слишком склонны», «любят почитание старшинства, уважают только тех начальников, которые поступают с ними справедливо» [5, с. 75].
До начала XIX в. большого пьянства у аларских бурят действительно не наблюдалось. Для этого были следующие причины: 1) бурятское молочное вино тара-сун или тогооной архи было мягким, 10-12 градусов. Для получения более крепкого напитка требовались дополнительные усилия, ведь производство было трудоёмким и материалозатратным; 2) это был сезонный напиток, производимый только в теплое время года, а его львиная доля уходила на шаманские молебны; 3)
традиционное общество не поощряло обильных возлияний [7, с. 148]. Единичные проявления пьянства воспринимались как серьезный проступок и наказывались прутьями, отлучением от рода, выселением за пределы ведомства [5, с. 239]. Решение об этом принималось на сходе суглане , где собирались представители родов (3-5 чел. от каждого рода). Чиновники, которые были на этих сходах, отмечали «удивительный такт и находчивость» у бурят: каждый вопрос они обсуждали «спокойно, осмотрительно – безо всяких излишних препирательств. Полный контраст нашим деревенским (сельским или волостным) сходам», – заметил М.Т. Поротов [15, c. 20]. «Нежадные, не склонные к ссорам», – в целом о западных бурятах писал и Георги [3, c. 298]. С середины XIX в. буряты втягиваются в общероссийский рынок и с появлением мелочных и мануфактурных лавок, постоялых дворов, питейных заведений и винных складов в их среде начинает распространяться злоупотребление спиртными напитками [5, c. 240].
Важные наблюдения в среде западных, в том числе аларских, бурят были сделаны Б. Петри: авторитет и власть старшего в роду, отца в семье были непререкаемыми, но в то же время они были смягчены природным добродушием бурят, которые не понимали и недоумевали, как можно «истязать детей» [14, c. 7]. Спокойствие, взаимоуважение, любовь к детям и атмосфера гармонии, царившие в бурятских юртах, где все было строго разграничено и распределено, являются характерными и для улусов, где никогда не наблюдались безобразные сцены. Культ детей проявлялся также в неустанной заботе родителей о них, что объяснялось не только большой смертностью, но и их общим добродушием, «и стремлением иметь большое потомство». Прозорливо автор отметил у бурят Предбайка-лья культ рода и связанную с ним многодетность: «род – гордость – дороже всего». Человеку, имеющему детей, всегда оказывали больше почтения. Его называли уже не собственным именем, а по имени ребенка [14, c. 8, 13]. Эту особенность аларские буряты сохраняли и в советское время, например, Викторэй баабай (отец Виктора), Лёвын иибии (мать Лёвы) и т.д. Также в Алари до сих пор при встрече спрашивают незнакомца: «Чей ты сын?», что подразумевает «Кто твой отец?».
Об устойчивых родовых принципах свидетельствовало отсутствие сирот и нищих. А.П. Щапов особо выделял наклонность бурят в нужде, несчастьях помогать друг другу: во всех улусах «безродные, сироты, бедные ходят по юртам, как по своим родным жилищам, и находят там приют и пропитание». Даже сирот ясачных инородцев буряты содержали за свой счет [5, c. 231]. Точно такие нравы наблюдали исследователи у соседних якутов: попечение о калеках, хилых, больных, разорившихся и неимущих исконно считалось обязанностью рода. Они ходят «меж юрт и допускаются к столу наравне с домашними» [16, c. 426]. Помощь сиротам у аларских бурят всегда признавалась благодеянием буян. Считалось, что вырастивший чужих детей приобретает помощь от высших сил, он становится неуязвимым от негативных деяний посторонних, результат его добродетели распространяется на потомков. Буряты брали у обедневших сойотов, которые доверяли им и находились с ними в дружбе и семейно-брачных связях, их детей, в особенности девушек, в возрасте от трех до десяти лет, по цене от 30 до 60 руб. Купленную девушку владелец воспитывал, затем выдавал замуж за хороший калым до 300 руб. [11]. Следует отметить, что буряты в Алари, у которых было многоотраслевое хозяйство, имели возможность дать детям более обеспеченную жизнь. Также у аларских бурят не принято было упрекать в бедности: считалось, что бедность и богатство – это временные состояния, в любой момент человек может все потерять и также в одночасье может разбогатеть – хун наhан соогоо гурба дахи убээрхэ, гурба дахи байжаха (досл.: человек в жизни три раза беднеет, три раза богатеет). Известно, что богатые буряты наделяли обедневших «скотом, раза по два и по три; но если и затем не могут поправиться, то служат у других без всякого нарекания, и живут в равном с хозяевами удовольствии» [3, с. 34].
Родовыми традициями была продиктована и общинная организация быта аларских бурят, их расселение кровно-родственными группами айл, где царили правила общего решения и ведения больших хозяйственных дел: сев, уборка урожая, сенокос, заготовка дров, строительство жилищ, забой скота и обязательная совместная трапеза после него и т.д. Известно, что группировались по родам, кроме бурят Предбайкалья, и соседние хакасы и якуты, у которых также наблюдалась «привычка к дисциплине и действию скопом», артелью складывать «свои припасы», вместе готовить пищу, есть и работать [16, c. 434]. Кроме родовых общин, коллективные интересы соблюдались и в улусных: в хозяйственной, в том числе промысловой, деятельности, встречах и проводах гостей, в проведении досуга и т.д. Именно в совместном отдыхе берут начало своеобразные песенные и танцевальные традиции аларских бурят. Несомненно, этот исторический опыт правил уникального общежития, основанного на ранней оседлости и мировоззренческих представлениях, заслуживает дополнительного отдельного изучения.
Главенствующая роль в семье принадлежала мужчине: все важные дела начинал он, решающее слово всегда было за ним, соблюдалось это правило даже в мелочах, например, вступить первым в разговор или зайти первым куда-либо. При этом в традиционном аларском обществе женщина никогда не была бесправной, на последних ролях, и не стояла за спиной мужчины, а всегда рядом с ним, при этом все же соблюдая некоторую дистанцию. На эту черту характера аларских женщин, отказывающихся раздеваться при обследовании, во время своих антропологических изысканий обратил внимание М.Т. Поротов: «недисциплинированные, не подчиняющиеся ни мало даже тому, кому мужчины буряты подчиняются» [15, c. 5].
Истоки такого статуса женщины в западно-бурятском обществе ярко проявлялись издревле: еще в охотничьих облавах они принимали участие наравне с мужчинами. Об их активном характере упоминали путешественники и миссионеры, отмечая, что «мужья их побаивались». По данным Д.А. Николаевой (2005), существует много устных рассказов западных бурят о протестах женщин, которые, будучи выданными замуж против их воли, не терпели насилия и могли бежать, «зимой, сквозь тайгу, отстреливаясь от погони, волков, разбойников». Их протест мог вылиться даже в такую форму, как суицид.
Позже мы видим появление балаганских, в том числе алар-ских, женщин в числе организаторов бурятской республики: первых бурятских революционеров, ученых, врачей, учителей, инженеров, артистов, художников и т.д. Так, Мария Сахьянова создавала первые большевистские ячейки в Иркутской губернии и была первой в мире женщиной – руководителем республики; Савранна Ма-лахирова – экономист, первая женщина – заместитель председателя Госплана Бурят-
Монгольской АССР; Ульяна Бабушкина – первый нарком здравоохранения Бурятии; Феодосия Осодоева – председатель подпольного комитета большевиков в Иркутске, одна из первых дипломированных фельдшеров Бурятии, организатор бурятского комсомола, Евдокия Аюева – первая женщина прокурор и многие другие.
В 1895 г. врач М.Т. Поротов провел полное антропологическое исследование аларских бурят. Диссертация на степень доктора медицины одновременно была этнографическим изысканием. Образ жизни, согласно выводам ученого, определил и фенотип алар-ских бурят: особенно развитые мышцы груди и верхних конечностей вследствие тяжелого труда хлебопашца на протяжении многих поколений; предрасположенность к ожирению из-за значительного употребления хлебных продуктов. По этим причинам окружность груди аларских бурят превосходила данные селенгин-ских на «целых семь сантиметров». Согласно Топинарю по окружности груди аларские буряты (88,6) оказались на 6-м месте после шотландцев (100), индейцев (96,5), англичан (93,9), немцев (91,2) и русских (88,7) [15, c. 99100]. Привлекали внимание своей удлиненностью кисти рук алар-ских женщин: как правило, очень узкая, «с тонкими, длинными пальцами, длинными узкими ногтями и весьма малой мышечной силой». И у мужчин довольно часто встречалась очень узкая кисть
«с длинными, тонкими пальцами, подобно которой среди рабочих других национальностей» автор не наблюдал. Обращает внимание Поротов на прямые ноги: «икры малы»; на размер черепа, равный калмыкам (у селенгинцев – 18,8, у забайкальцев еще меньше – 17,8); на ширину черепа – 15,96, тогда как у селенгинцев – 15,9, у монго-лов-торгоутов – 15,5, вследствие чего аларцы «менее широколицы, нежели упомянутые выше родственные им народы» [15, c. 132, 134, 141]. По этим измерениям череп аларского бурята относится к разряду брахицефалических, где вычисленный указатель отклонения – 82,4, указывающий нечистоту крови исследуемой расы (для сравнения: у калмыков – 84,31; у селенгинцев – 88,4; у забайкальцев – 89,6). Столь большая разница в головных указателях забайкальских и аларских бурят явно указывает на их племенное различие [15, c. 145].
В целом по этим и другим данным (ширина и длина лица, носовые и ушные указатели) аларские буряты оказались более близки к калмыкам, чем к бурятам других племен, больше земледельцы, чем скотоводы, имеющие большую склонность к умственному развитию, жизнеспособны и дающие хорошие результаты при метисации. Измерения М. Поротова сопоставлялись с данными селен-гинских бурят, калмыков и монго-лов-торгоутов. У аларцев были отмечены признаки, характерные для метисов: светлые глаза (8% темно-карих, 92% более светлых), густой румянец, веснушки (у мужчин в 5%, у женщин в 33,3%) [15, c. 71]. Отметим, что по наличию веснушек в современной Монголии выделяют бурят (ПМА, 2015). О «присутствии в крови аларцев еще какой-то другой» говорит и очень высокий указатель отклонений при вычислении их среднего роста [15, c. 144].
Выводы М.Т. Поротова, сделанные в конце XIX в., подтверждаются множеством результатов современных исследований. Археологические, топонимические и антропологические данные говорят о том, что с древности в Южной Сибири проживало пестрое по составу население. Оно относилось не только к разным этносам, но и к различным расовым типам. У тагарцев, например, преобладал европеоидный физический тип населения, но встречались и смешанные, и монголоидные особи, которые, судя по топонимике, говорили на угро-, кето-, и самодийских наречиях [6, с. 31, 35]. В эпоху неолита в предгорье Саян были расселены восточные племена южных самодийцев, позже – древне-тунгусские. Северо-восточнее, на юге балаганских степей, обнаруживаются следы европеоидов, проживавших в эпоху бронзы и раннего железа и обладавших чертами определенного расово-этнического типа – таджикско-согдийского. Они вели оседлое земледельческо-скотоводческое хозяйство, занимались ремеслами и торговлей. Их среднеазиатская культура сочеталась с тюркской кочевой [13, с. 38, 40].
Общеизвестно, что среди западных бурят европеоидные черты более выражены: светлая кожа, мягкие, а не жесткие волосы, более широкий разрез глаз» [4, c. 158]. Антропологически они близки к якутам (внутри центрально-азиатского типа выделен особый, «ангаро-ленский» вариант, объединяющий их), тогда как восточные буряты – к монголам [12, c. 17, 123]. Несомненно, значимую роль здесь сыграл географический фактор: труднодоступ-ность с юга (таежно-горные массивы Восточного Саяна) и с востока (оз. Байкал, а для аларских бурят еще и воды Ангары) обусловили влияние с запада [20, с. 23]. Гетерогенность антропологического состава населения на всем протяжении этнической истории в целом Циркумбайкалья подтверждается данными многих исследований [2, c. 134].
Наиболее наглядным археологическим фактом являются люди в Мальте, жившие около 24 тыс. лет назад (раннепалеолитический памятник в левобережном Приангарье, в местах традиционного расселения аларских бурят). Они имели родство с палеоевропей-ской кроманьонской расой, но уже с заметной монголоидной примесью. Известно, что слабая монго-лоидность была характерна для древнего населения Европы. По данным американского антрополога К.Г. Тёрнера, зубы старшего ребёнка из Мальты близки к зубам современных и доисторических европейцев [21, с. 108].
Таким образом, ранние материалы исследователей об этническом облике бурят Предбайкалья являются важным, поистине бесценным источником информации. Поначалу носившие описательный характер, позже они содержат аналитику и в основном находят подтверждение в современных изысканиях. Опираясь на них, можно сделать вывод о том, что на раннем этапе межэтническое взаимодействие в условиях частичной территориальной изоляции привело к смешению, наглядно проявившись во внешнем облике ала-рских бурят. Их нравы определялись традиционными ценностями: приматом семейно-родовых, а также общественно-коллективных интересов. Род консолидировал, регламентировал и регулировал всю жизнедеятельность аларских бурят, моделируя их этнический облик. Социальная общинная организация быта, способствующая сплоченности и единству, была стержнем морально-нравственной составляющей, благодаря которой формировалась этнотерритори-альная группа, исторически испытывая, как и все Предбайкалье, культурное влияние западных цивилизаций.
Список литературы Об этническом облике бурят Предбайкалья на примере аларских бурят (по материалам исследователей XVIII - начала XX вв.)
- Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири во второй половине XIX в. Улан-Удэ, 1963. 494 с.
- Бураев А. И. История антропологического исследования Байкальской Сибири // Известия Иркутского государственного университета. 2016. Т. 18. С. 125-142.
- Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Ч. IV. СПб., 1799.
- Дашибалов Б. Б. На монголо-тюркском пограничье (этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в средние века). Улан-Удэ, 2005. 202 с.
- История Аларской степной думы в документах Государственного архива Республики Бурятия (1824-1889). Иркутск, 2015. 352 с.
- Кызласов Л. Р. Первобытнообщинный строй и его разложение // История Хакасии с древнейших времен до 1917 года. М., 1993. С. 8-35.
- Махачкеева Г. В. Духаряан – ритуал обмена чашей с вином убурят Предбайкалья // Известия АлтГУ. 2017. № 5 (97). С. 147-151.
- Миддендорф А. Ф. Путешествие на Север и Восток Сибири. В 2 ч. Ч. I. СПб.,1860.
- Михайлов В. А. Земледелие западных бурят в XVII – начале XX века: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.07. Улан-Удэ, 2000. 24 с.
- Михайлов В. А. Традиционные ремесла бурят: строительство, металлообработка (XVII – начало XX века). Улан-Удэ, 2006. 96 с.
- Можаев И. А. Заметка о мунгалах // Известия Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества. Т. XXXVI: 1905. Иркутск: Типо-литография П. И. Макушина, 1908. С. 82-84.
- Нимаев Д. Д. Проблемы этногенеза бурят. Новосибирск, 1988. 169 с.
- Окладников А. П. История и культура Бурятии. Улан-Удэ, 1976. 458 с.
- Петри Б. Э. Внутриродовые отношения у северных бурят. Иркутск, 1925. 72 с.
- Поротов М. Т. К антропологии бурят. Буряты-аларцы. СПб., 1895. 184 с.
- Серошевский В. Л. Якуты: опыт этнографического исследования. М., 1993. 713 с.
- Термен А. И. Среди бурят Иркутской губернии и Забайкальской области: очерки и впечатления. СПб., 1912. 144 с.
- Хан Ф. Фермойлен. Герард Фридрих Миллер (1705 -1783) и становление этнографии в Сибири. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3405/2/pristr-07-10.pdf?ysclid=lunyulu79k663432960 (дата обращения: 30.03.24).
- Чимитдоржиев Ш. Б. Кто мы – бурят-монголы? Изд-е 3. Улан-Удэ, 2012. 384 с.
- Махачкеева Г. В. Географический фактор и его влияние на формирование и развитие традиционного хозяйства аларских бурят // Вестник ВСГИК. 2023. № 3(27). С. 22-31.
- Малолетко А. М. Древние народы Сибири. Этнический состав по данным топонимики. Т. 3. Докаганатские тюрки. Томск, 2004. 292 с.