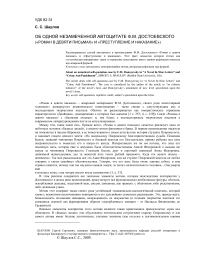Об одной незамеченной автоцитате Ф. М. Достоевского («роман в девяти письмах» и «Преступление и наказание»)
Автор: Шаулов Сергей Сергеевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 (7), 2009 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается случай автоцитаты в произведениях Ф.М. Достоевского «Роман в девяти письмах» и «Преступление и наказание». Этот факт осмыслен автором статьи как «эстетическая инициатива» героя и отражение качественно иного уровня рефлексии писателя над жанровой формой.
Автоцитата, повторяющийся мотив, авторская рефлексия над формой
Короткий адрес: https://sciup.org/170175184
IDR: 170175184 | УДК: 82-31
Текст научной статьи Об одной незамеченной автоцитате Ф. М. Достоевского («роман в девяти письмах» и «Преступление и наказание»)
«Роман в девяти письмах» – жанровый эксперимент Ф.М. Достоевского, своего рода эпистолярный «конспект» развернутого романического повествования – тесно связан с сопутствующим ему и последующим творчеством писателя. Обычно он рассматривается как юмористическое отражение характерологии «Двойника», одновременно с которым был написан [3 с. 257; 4, с. 239]). Связи «Романа в девяти письмах» с «Бедными людьми» и, тем более, с послекаторжным творчеством писателя в современном литературоведении почти не актуализированы.
Между тем, такие связи есть. Прежде всего, «Роман в девяти письмах» сюжетно реализует один из побочных мотивов «Бедных людей», а именно мотив фиктивного брака. В первом произведении писателя он появляется в письме Вареньки, в ее повествовании о своем детстве (как история студента Покровского), и занимает совсем немного места: «Но маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребенка под свое покровительство и поместил его в какую-то школу. Интересовался же он им потому, что знал его покойную мать, которая еще в девушках была облагодетельствована Анной Федоровной и выдана ею замуж за чиновника Покровского. Господин Быков, друг и короткий знакомый Анны Федоровны, движимый великодушием, дал за невестой пять тысяч рублей приданого. Куда эти деньги пошли – неизвестно. Так мне рассказывала все это Анна Федоровна; сам же студент Покровский никогда не любил говорить о своих семейных обстоятельствах. Говорят, что его мать была очень хороша собою, и мне странно кажется, почему она так неудачно вышла замуж, за такого незначительного человека... Она умерла еще в молодых летах, года четыре спустя после замужества» [1, с. 33].
В этом рассказе содержатся все значимые элементы мотива, которые впоследствии повторяются у Достоевского в целом ряде произведений, присутствуют все функционально необходимые фигуры: обидчик, оскорбленная девушка, подставной муж, сводня, связанная, как правило, с обидчиком либо родственными, либо деловыми узами.
Мотив этот содержит также своего рода устойчивый эмоционально-идеологический комплекс, который также с немногими исключениями повторяется в его дальнейших сюжетных реализациях. Это, прежде всего, безвыходность положения женщины, вынужденность ее замужества (в позднем творчестве писателя это становится основой для формирования образов «оскорбленных» женщин – от Настасьи Филипповны до Грушеньки).
Важным элементом восприятия этого мотива является также нравственное превосходство мужа над обидчиком. В «Бедных людях» оно обусловлено читательским сочувствием старику Покровскому и для самого автора имеет больше эстетическое, стилевое значение (как отсылка к сентиментальным корням
романа). В «Подростке» подставной муж становится одним из праведных старцев позднего Достоевского, и эта фигура наполняется уже специфически «достоевским» содержанием. Впрочем, в других случаях, это моральное превосходство – собственная иллюзия героя, в глазах автора, наоборот, сатирически снижающая его образ.
Интересно, что этот мотив практически никогда не дается в автологической речи. Он показан глазами персонажей, причем, как правило, в двух ракурсах – жестоко-ироническом и сочувственном. Так, в «Бедных людях» Варенька пересказывает рассказ Анны Федоровны. Эвфемизмы «благодетель», «покровительствовал» и т.д. явно взяты Варенькой у первой рассказчицы. Их иронический смысл для самой Вареньки непонятен, но ясен для читателя, и уже на эту иронию накладывается сочувствие героини студенту Покровскому.
В романе «Идиот», где рассматриваемый мотив не получает завершения, но имеет чрезвычайно важное сюжетное значение, попытки Тоцкого и генерала Епанчина устроить замужество Настасьи Филипповны показаны через ряд более или менее иронических намеков, объединенных сочувственным видением князя Мышкина. В «Подростке» структура сложнее (сквозь речь Аркадия проступает сочувствие автора), но принцип совмещения двух точек зрения остается.
«Роман в девяти письмах», по всей видимости, единственное исключение, в котором этот мотив дан только в сатирически-ироническом виде. Сложная интрига, в которой участвуют Иван Петрович и Петр Иванович, к моменту собственно романа уже завершена женитьбой Ивана Петровича, но не завершены денежные расчеты участников. Их споры по этому поводу и составляют главное содержание романа. Все функционально значимые фигуры здесь есть: Иван Петрович – подставной муж, Петр Иванович и его жена – сводни, Евгений Николаевич – обидчик. В «Романе в девяти письмах» актуализируется существенная часть мотива, полускрытая в «Бедных людях»: деньги. Именно вокруг них вертится сюжет этого рассказа, и через отношение к ним раскрывается сатирическая сущность двух героев.
Однако связи «Романа в девяти письмах» с «великим пятикнижием» Достоевского не ограничены только мотивно-тематической преемственностью. В «Преступлении и наказании» этот мотив вводится через одну интересную и до сих пор не прокомментированную автоцитату.
Сравним. «Роман в девяти письмах» завершается письмом героини, которую выдали за Ивана Петровича: «Прощайте, прощайте, Евгений Николаич! награди вас господь и за это. Будьте счастливы, а мне доля лютая; страшно! Ваша воля была. Если бы не тетушка, я бы вам вверилась так. Не смейтесь же ни надо мной, ни над тетушкой. Завтра венчают нас. Тетушка рада, что нашелся добрый человек и берет без приданого. Я в первый раз пристально на него поглядела сегодня. Он, кажется, добрый такой. Меня торопят. Прощайте, прощайте... голубчик мой!! Помяните обо мне когда-нибудь; я же вас никогда не забуду. Прощайте. Подпишу и это последнее, как первое мое... помните?» [1, с. 239].
В «Преступлении и наказании» Раскольников узнает о готовящемся браке сестры из письма матери: «Я, разумеется, мало поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый» [2, с. 31]. Повторение характеристики «кажется, добрый» отнюдь не случайно. Именно за это «кажется» потом цепляется мыслью Раскольников: «Так, значит, решено уж окончательно: за делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна, имеющего свой капитал (уже имеющего свой капитал, это солиднее, внушительнее), служащего в двух местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений (как пишет мамаша) и, “кажется, доброго”, как замечает сама Дунечка. Это кажется всего великолепнее! И эта же Дунечка за это же кажется замуж идет!..» [2, 35].
То, как Достоевский усиливает в речи Раскольникова это «кажется», указывает на значимость фразы: «кажется, добрый» – краткая формула безвыходного положения героини, попытка самоутешения и самооправдания.
Сходство ситуаций сорвавшегося брака Дуни Раскольниковой и брака Татьяны из «Романа в девяти письмах» усиливается тем, что участвующие в них герои сознательно принимают на себя уже зафиксированные в «Романе в девяти письмах» роли.
Марфа Петровна выступает в роли сводни, связанной, как и полагается, и с обидчиком, и с возможным мужем: «Он уже надворный советник, Петр Петрович Лужин, и дальний родственник Марфы Петровны, которая многому в этом способствовала» [2, с. 31].
Сам Петр Петрович свою роль видит следующим образом: «…ваша мамаша, кажется, совершенно забыла, что я решился вас взять, так сказать, после городской молвы, разнесшейся по всему околотку насчет репутации вашей. Пренебрегая для вас общественным мнением и восстановляя репутацию вашу, уж, конечно, мог бы я, весьма и весьма, понадеяться на возмездие и даже потребовать благодарности вашей...» [2, с. 234]. Здесь моральное превосходство мужа – целиком его иллюзия, разоблачаемая автором (кстати, тот же комплекс обманутого благородства пытается выразить и Иван Петрович в «Романе в девяти письмах»).
В сознании Раскольникова возникает сопоставление возможной судьбы Дуни и уже состоявшейся судьбы Сони Мармеладовой. Так мотив фиктивного брака лишается своей главной роли в сюжете – маскировки действительного положения дел. Коммуникативная структура меняется: сочувственный пафос письма матери снимается беспощадной иронией героя Достоевского.
Автоцитата (судя по ее многократному повторению – вполне намеренная, осознанная) устанавливает не просто генетическую связь между первым романом «великого пятикнижия» и «Романом в девяти письмах». Эпистолярная форма «достраивается» реакцией героя, который в свою очередь приобретает возможность суждения о сюжете. Речь здесь идет не о равноправии автора и героя, а об усилении влияния героя на читательскую рецепцию. С точки же зрения эволюции жанра эта метаморфоза мотива, его дополнение «эстетической инициативой» героя отражает качественно иной уровень рефлексии писателя над романной формой.
Список литературы Об одной незамеченной автоцитате Ф. М. Достоевского («роман в девяти письмах» и «Преступление и наказание»)
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинение. В 30 т. Т. 1. Бедные люди. Повести и рассказы. Л.: Наука, 1972. 520 с.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинение. В 30 т. Т. 6. Преступление и наказание. Л.: Наука, 1973. 424 с.
- Кирпотин В.Я. Молодой Достоевский. М.: ГИХЛ, 1947. 270 с.
- Мочульский К.В. Достоевский: жизнь и творчество//Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. С. 219-562.