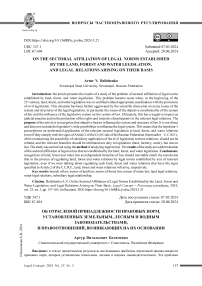Об отраслевой принадлежности правовых норм, установленных земельным, лесным и водным законодательствами, и правоотношений, возникающих на их основании
Автор: Беличенко А.В.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы частноправового регулирования: история и современность
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье представлены результаты исследования проблемы отраслевой принадлежности правовых норм, которые установлены земельным, лесным и водным законодательствами. Эта проблема стала острой, когда в начале XXI столетия была проведена рекодификация земельного, лесного и водного законодательств без соответствующего согласования с положениями гражданского законодательства. Эта ситуация вызвала научную дискуссию по многим вопросам системы и структуры законодательства права, в частности по вопросам объективной обусловленности системы права и влияния системы законодательства на систему права. В конечном счете это отрицательно сказывается на судебной практике, на защите прав и интересов участников соответствующих правоотношений. Целью статьи является признание того, что объективные факторы влияют на систему и структуру права. Оно не непосредственное и не исключает широких возможностей законодателя влиять на систему права. Это означает, что предписания законодателя о преимущественном применении к земельным, лесным и водным отношениям (хотя бы они и соответствовали признакам ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)) соответствующего отраслевого законодательства при сохранении возможности субсидиарного применения к этим отношениям гражданского законодательства не должны опровергаться. А соответствующие отрасли следует относить не только к законодательству (земельному, лесному, водному), но и к праву. Изучение проведено с помощью метода анализа правовых норм. Результатом исследования является определение отраслевой принадлежности правовых норм, которые установлены земельным, лесным и водным законодательствами.
Отрасль права, нормы земельного права, нормы лесного права, нормы водного права, земельные правоотношения, водные правоотношения, субсидиарное правоотношение
Короткий адрес: https://sciup.org/149146815
IDR: 149146815 | УДК: 347.1 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2024.3.21
Текст научной статьи Об отраслевой принадлежности правовых норм, установленных земельным, лесным и водным законодательствами, и правоотношений, возникающих на их основании
DOI:
Актуальность темы статьи обусловлена сложностью соотношения и согласования гражданского законодательства и права с земельным, лесным, водным законодательствами и правом. В юридической науке и в процессе правотворческой деятельности совершенно отчетливо проявились две тенденции, которые противоречат друг другу и являются несовместимыми. С одной стороны, утверждается самостоятельность отраслей земельного, водного и лесного законодательств и права с вполне приемлемым субсидиарным применением к отношениям, регулируемым этими отраслями, гражданского законодательства. С другой стороны, законодательные положения подчас формулируются таким образом, что остаются определенные возможности для выводов о сохранении приоритета гражданского законодательства как регулятора земельных, лесных и водных отношений в той части, в которой они подпадают под признаки отношений, в ст. 2 ГК РФ признающиеся предметом регулирования гражданского законодательства.
Отдельные аспекты проблемы, результаты исследования которой излагаются в настоящей статье, освещались в научных публикациях А.П. Анисимова [4], В.К. Быковского [5], С.А. Боголюбова, Л.А. Грось [6], В.А. Дозорцева [7], Н.В. Кичигина, Д.А. Лопухина [10], А.Л. Маковского [11], А.И. Меликова, И.В. Пономарева, А.Ю. Пуряевой, А.С. Пуряева [12], Е.А. Суханова [13], В.В. Чубарова [15] и других авторов.
Целью настоящей статьи является разработка теоретических положений, обосновывающих отраслевую квалификацию правовых норм, которые устанавливаются актами гражданского, земельного, лесного и водного законодательств и регулируют земельные, лесные, водные отношения, а также правоотношения, возникающие на основании таких норм.
Особенности формирования предмета регулирования земельного, лесного и водного законодательств
Предмет регулирования гражданского законодательства и права определен в ст. 2
ГК РФ. В самом общем виде он может быть охарактеризован как имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. Земельные, лесные и водные отношения в составе предмета гражданско-правового регулирования прямо не называются. Но возможность регулирования земельных отношений гражданским законодательством вытекает из признания вещей объектами гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), а земельных участков – недвижимыми вещами, а также из факта регулирования вещных отношений по поводу земельных участков положениями гл. 17 ГК РФ. В ГК РФ и других актах гражданского законодательства имеются и положения, свидетельствующие о том, что земельные отношения в той их части, в которой подпадают под признаки ст. 2 ГК РФ, признаются предметом регулирования гражданского законодательства. Возможность применения гражданского законодательства к земельным отношениям предусматривается Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ), другими актами земельного законодательства (п. 2 ст. 1; п. 1 ст. 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и др.). А абзац 13 п. 1 ст. 1 ЗК РФ предусматривает применение принципа «разграничения действия норм гражданского законодательства и норм земельного законодательства» при регулировании земельных отношений «в части регулирования отношений по использованию земель». Допуская регулирование земельных отношений, обладающих признаками, указанными в ст. 2 ГК РФ, гражданским законодательством, ЗК РФ ограничивает такую возможность только случаями, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательствами, законодательством о недрах, об охране окружающей среды и федеральными законами (п. 3 ст. 3 ЗК РФ). Уточним, что в этом пункте речь идет об отношениях, которые, безусловно, подпадают под признаки, указанные в ст. 2 ГК РФ, – об имущественных отношениях по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними.
Подобным образом и Лесной кодекс Российской Федерации (далее – ЛК РФ) до- пускает регулирование гражданским законодательством и Земельным кодексом имущественных отношений, связанных с оборотом лесных участков, лесных насаждений, а также полученных при использовании лесов и осуществлении мероприятий по сохранению лесов, древесины и других ресурсов, если иное не установлено Лесным кодексом, другими федеральными законами (регулирующими лесные отношения), что предусмотрено ст. 3 ЛК РФ. Ст. 4 Водного кодекса Российской Федерации (далее – ВК РФ) также допускает регулирование отношений, связанных с оборотом водных объектов гражданским законодательством, если они не урегулированы Водным кодексом (п. 2 ст. 4 ВК РФ).
Изложенные здесь законодательные положения дают основание утверждать, что существуют земельные, лесные и водные отношения, обладающие признаками, указанными в ст. 2 ГК РФ, а поэтому указанные отношения изначально относятся к предмету регулирования гражданского законодательства. Однако законодатель изъял земельные, лесные и водные отношения, обладающие указанными признаками, из предмета регулирования гражданского законодательства (ст. 3 ЗК РФ; ст. 3 ЛК РФ; ст. 2 ВК РФ). Ссылки на то, что такое утверждение неправильно из-за его противоречия п. 2 ст. 3 ГК РФ не могут опровергнуть это утверждение. Конституционный Суд считает, что «в статье 76 Конституции РФ не определяется и не может определяться иерархия законов внутри одного их вида, в данном случае – федеральных законов. Ни один федеральный закон не обладает по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой» (Определение от 3 февраля 2000 г. № 22-О). Многомерный юридический дискурс, предполагающий ссылки на п. 4 ч. 4 ст. 180, п. 3 ч. 1 ст. 310 КАС РФ; ч. 4 ст. 1, ч. 4.1 ст. 198, п. 4 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ; п. 5 ст. 3, абзац 8 ч. 4 ст. 170, п. 3 ч. 2 ст. 288 АПК РФ, который (дискурс) здесь не может быть приведен из-за ограниченности объема этой статьи, дает основания для вывода о том, что правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом, в том числе в принимаемых им определениях, имеют обязательный характер. Следовательно, п. 2 ст. 3 ГК РФ, требующий со- ответствия Гражданскому кодексу всех федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ст. 2 ГК РФ (это касается также и ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ), не может препятствовать выводу о том, что изъятие земельных, лесных и водных отношений, в том числе и отношений, подпадающих под признаки, указанные в ст. 2 ГК РФ, из предмета регулирования гражданского законодательства, состоялось, а гражданское законодательство субсидиарно применяется к этим отношениям только в части, в которой этому не препятствуют ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, а в соответствующих случаях – и положения других федеральных законов и иных актов земельного, лесного и водного законодательств. Кодифицировав земельное, лесное и водное законодательства и допустив применение земельного, лесного и водного кодексов к соответствующим земельным, лесным и водным отношениям, в том числе обладающим признаками, указанными в ст. 2 ГК РФ, законодатель не должен был переносить в эти отраслевые кодексы из Гражданского кодекса все положения, касающиеся имущественных отношений, обладающих признаками, указанными в ст. 2 ГК РФ, а предусмотрел субсидиарное применение к соответствующей части земельных, лесных, водных отношений.
Что касается состава отношений, охватываемых понятиями соответственно земельных, лесных и водных отношений, то он описывается в определениях этих понятий (п. 1 ст. 3 ЗК РФ; п. 1 ст. 3 ЛК РФ; п. 1 ст. 2 ВК РФ). Кроме того, в состав соответствующих отношений входят все отношения, которые регулируются правовыми нормами, установленными Земельным, Лесным и Водным кодексами. В этой связи вызывает замечания мысль О.И. Крассова, которую приводит С.А. Боголюбов: «...в чистом виде земельных отношений практически не существует» [9, абз. 107]. Вопрос о чистоте земельных отношений не имеет конструктивного содержания. Он поставлен в порядке подготовки почвы для вывода о комплексном характере земельного права. Но комплексный характер земельного права – это вопрос, который утратил свое конструктивное содержание в связи с принятием Земельного, Лесного и Водного кодексов и признанием приоритета этих кодексов как ре- гуляторов соответствующих отношений перед гражданским законодательством.
Регулирование действующими земельным, лесным и водным законодательствами соответствующих отношений, обладающих признаками, указанными в п. 1 ст. 2 ГК РФ
Некоторые основания для этого действующие земельное, лесное, водное законодательства все же дают. В этой связи следует обратиться к проблеме соотношения пунктов 1 и 3 ст. 3 ЗК РФ. Иногда делается такой вывод, что эти два пункта касаются разных, хотя и смежных общественных отношений. При этом утверждается, что п. 1 ст. 3 ЗК (земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения)) распространяется только на публичные отношения. Следовательно, земельные отношения – это отношения публичные, а земельное законодательство – это публичное законодательство. При этом отношения, которых касается п. 3 ст. 3 ЗК РФ (отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками и совершению сделок с ними) считаются предметом регулирования гражданского законодательства. К таким выводам и пришел Е.А. Суханов [13]. De lege ferenda – это, очевидно, правильно. Но для целей правоприменения такие выводы вряд ли пригодны из-за их несоответствия действующему законодательству. Отношения по использованию земель (п. 1 ст. 3 ЗК РФ) – это родовое понятие. А отношения по поводу владения, пользования и распоряжения земельными участками – это понятие видовое. Это дает основание утверждать, что в п. 1 ст. 3 ЗК РФ устанавливается общая норма, а в п. 3 ст. 3 ЗК РФ – специальная норма. Положение абзаца тринадцатого п. 1 ст. 1 ЗК РФ предусматривает разграничение действия гражданского и земельного законодательств как регуляторов отношений по «использованию» земель, признаваемых в п. 1 ст. 3 ЗК РФ земельными. А отношения, о которых речь идет в п. 3 ЗК РФ, – это тоже отношения земель- ные, хотя они и обладают признаками, указанными в ст. 2 ГК РФ. По причине наличия этих признаков законодатель предусмотрел возможность субсидиарного применения к этим отношениям гражданского законодательства.
Ст. 3 ЛК РФ сформулирована по образцу ст. 3 ЗК РФ: сначала ст. 3 ЛК РФ определяет лесные отношения как отношения прежде всего по использованию лесов, а затем предусматривает регулирование имущественных отношений, связанных с оборотом лесных участков, лесных насаждений, а также древесины и иных лесных ресурсов, полученных при использовании лесных ресурсов и мероприятий по сохранению лесов, гражданским законодательством, если иное не установлено Лесным кодексом, «другими федеральными законами». Правовая норма, установленная п. 2 ст. 3 ЛК РФ, касается лесных участков, а поскольку лесной участок – это разновидность земельных участков (ст. 7 ЛК РФ), то указанная норма подлежит преимущественному применению перед п. 3 ст. 3 ЗК, который исключает применение гражданского законодательства к соответствующим земельным отношениям лесным законодательством (а не только Лесным кодексом). Сложнее истолковать слова «другими федеральными законами», содержащиеся в п. 2 ст. 3 ЛК РФ. Точнее, трудно убедить профессионалов-юристов в том, что эти слова следует толковать с учетом контекста как «другими федеральными законами, относящимися к лесному законодательству (ст. 2 ЛК РФ)».
Водный кодекс также устанавливает, что имущественные отношения, связанные с оборотом водных объектов, регулируются гражданским законодательством в той мере, в коей они не урегулированы Водным кодексом. Конечно, такое разнообразие вариантов ограничения применения гражданского законодательства к имущественным отношениям по поводу земельных участков: 1) земельным, лесным, водным законодательствами, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, федеральными законами (п. 3 ст. 3 ЗК РФ); 2) Лесным кодексом, другими федеральными законами (п. 2 ст. 3 ЛК РФ); 3) Водным кодексом (п. 2 ст. 4 ВК), не может быть оправдано. Эти законодательные положения должны быть максимально унифицированы.
Отраслевая классификация правовых норм, регулирующих земельные, водные и лесные отношения
Очевидно, мы вряд ли будем приближаться к истине, если пойдем по пути признания возможности изменения отраслевой принадлежности норм, которые изначально являются нормами гражданского или публичного права, но регулируют полностью или частично земельные, лесные или водные отношения. Поэтому нормы гражданского права, которые регулируют исключительно земельные отношения, хотя бы и обладающие признаками, указанными в ст. 2 ГК (например, нормы, устанавливаемые главой 17 ГК РФ), или регулируют наряду с другими отношениями также и земельные отношения (например, нормы о сделках), всегда остаются нормами гражданского права. Это же касается и норм гражданского права, которые не являются самостоятельными регуляторами земельных отношений, а применяются к уже урегулированным другими нормами отношениями (например, не являются самостоятельными регуляторами нормы об исковой давности). В связи с этим мы критически оцениваем мысль о том, что Гражданский кодекс находится «среди относящихся к земельному законодательству и также регулирующих земельные отношения законов» [5]. То, что Гражданский кодекс регулирует земельные отношения (имеющих признаки, указанные в ст. 2 ГК РФ, не изъятых законодателем из предмета регулирования гражданского законодательства и не перенесенных в предмет земельного законодательства), не является предметом для дискуссии, ибо такое предусмотрено абзацем 13 п. 1 ст. 1 и п. 3 ст. 3 ЗК РФ. Здесь дискуссия может вестись только в аспекте de lege ferenda. Но отношение к земельному законодательству Гражданского кодекса является совершенно неприемлемым, так как будет означать подчинение Гражданского кодекса в той части, в которой он регулирует земельные отношения, правовому режиму, установленному ст. 2 ЗК РФ.
С точки зрения de lege lata нетрудно квалифицировать все правовые нормы, установленные Земельным, Лесным и Водным кодексами, как нормы соответственно земельного, лесного, водного права. Но здесь есть определенные нюансы. Земельное, лесное и водное законодательства – это понятия, которые не только признаются законодателем, но и определяются им (ст. 2 ЗК РФ; ст. 2 ЛК РФ; ст. 2 ВК РФ). Употребляется также термин «нормы земельного законодательства» (абзац 13 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). Обобщающий термин «нормы указанных отраслей законодательства» (абзац 2 п. 2 ст. 3 ЗК РФ) раскрывается в том же пункте и охватывает собою, в частности, нормы лесного и водного законодательств, хотя в Лесном и в Водном кодексах также термины не употребляются.
В Земельном кодексе употребляется также и термин «нормы земельного права» (п. 1, 3, 4 ст. 2 ЗК РФ). Таким образом, законодатель признает не только отрасль земельного законодательства, но и отрасль земельного права, нормы земельного права. Очевидно, все правовые нормы, устанавливаемые Земельным кодексом, являются нормами земельного права.
Однако широко распространенные научные концепции мешают признанию отрасли земельного права даже в условиях, когда эту отрасль признает законодатель. Когда признается необходимость единого правового режима земельных участков (как представляется, такому правовому режиму не препятствует п. 3 ст. 3 ЗК РФ, допускающий субсидиарное применение гражданского законодательства к земельным отношениям в той части, в которой они обладают признаками, указанными в ст. 2 ГК РФ), автор пишет о «взаимодействии норм различной отраслевой принадлежности, составляющих межотраслевые институты» [4, абз. 49]. Уточним, что речь идет о правовом режиме земельных участков. Законодатель предусмотрел субсидиарное применение к этим отношениям гражданского законодательства. Говорить в связи с этим об образовании «межотраслевого института» вряд ли уместно: правовой режим земельных участков по-прежнему остается земельно-правовым.
В других случаях пишут о том, что «Земельные кодекс, помимо земельно-правовых правил поведения, включает множество гражданских, административных и иных норм права» [10, абз. 17]. Земельным кодексом законодатель объединил в едином кодифицирован- ном законодательном акте публично-правовые и частно-правовые нормы, назвал их все вместе нормами земельного права, а в науке утверждают, что наряду с нормами земельного права Земельный кодекс устанавливает и нормы других отраслей права.
Поскольку сложилась своеобразная традиция отстаивания мифических отраслевых интересов, против признания земельного права самостоятельной отраслью права выступают ученые-специалисты в области гражданского права. В.А. Дозорцев писал об этом, очевидно, с целью повлиять на содержание нового Земельного кодекса: «Земельные отношения распались на регулируемые гражданским и административным правом... основания для признания земельного права самостоятельной отраслью перестали существовать, теперь земля попала в сферу действия гражданского права, являясь объектом экономического оборота» [7, с. 26]. Идею комплексности отрасли земельного законодательства поддерживает и развивает В.В. Чубаров: «В тех случаях, когда по воле законодателя гражданско-правовые нормы располагаются в источниках земельного законодательства, они своей родовой принадлежности не теряют и остаются гражданско-правовыми. В целом данный подход уже воплощен в нормах УК РФ 2001 г.» [15, абз. 2713]. В подтверждение своих мыслей В.В. Чубаров ссылается на «маститых» отечественных цивилистов – А.Л. Маковского [11] и Л.А. Грось [6].
Оправдание борьбы цивилистов за земельные отношения как предмет гражданско-правового регулирования видится в основном не в особенностях соответствующей материи, а в ряде организационных моментов: 1) наука гражданского права имеет несравненно большие трудовые ресурсы, чем наука земельного права, что предопределяет возможности развития научных исследований; 2) наука гражданского права более крепка организационно (количество кафедр гражданского права в университетах стране несравнима с количеством кафедр земельного права); 3) высокий авторитет гражданского права и как науки, и как отрасли права. Но есть аргументы и в пользу земельного права. Если будет земельное право, то будут и ученые, специализирующиеся на соответствующей отрасли юридического знания. А это – предпосылка более глубокого осмысления соответствующих научных проблем и повышения качества правотворческой деятельности.
Полагаем, что вопрос об отраслевой принадлежности правовых норм, установленных Лесным и Водным кодексами, должен решаться так же, как он решается применительно к Земельному кодексу. Этому не препятствует то обстоятельство, что в Лесном и Водном кодексах нет терминов «лесное право», «водное право», «нормы лесного права», «нормы водного права». В Лесном и Водном кодексах не употребляются даже термины «нормы лесного законодательства», «нормы водного законодательства». Но последнее, скорее всего, должно быть оценено положительно (ввиду неопределенности значения подобного рода терминов). Дело в том, что законодатель четко определил предмет регулирования лесного и водного законодательств (п. 1 ст. 3 ЛК РФ; ст. 4 ВК РФ), совершенно четко допустил применение лесного и водного законодательств ко всем лесным и водным отношениям, в том числе имеющим признаки, указанные в ст. 2 ГК РФ, лесного и водного законодательств (п. 2 ст. 3 ЛК РФ), предусмотрел преимущественное применение Лесного кодекса и других федеральных законов (п. 2 ст. 3 ЛК РФ), Водного кодекса (п. 2 ст. 4 ВК РФ) перед гражданским законодательством, к отношениям, которые регулируются этими кодексами и которые имеют признаки, указанные в ст. 2 ГК. Приоритет лесного законодательства ЛК РФ утверждает не только общими, но и специальными нормами. Так, ч. 2 ст. 75 ЛК РФ устанавливает, что к договору купли-продажи лесных насаждений применяются положения о договорах купли-продажи, предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено ЛК РФ. В.К. Быковский положительно оценивает эти законодательные решения и пишет, что «лишь лесное законодательство способно учесть значительные особенности установления правового режима лесов» [5, абз. 410].
Представляется, что изложенного вполне достаточно для признания лесного и водного законодательств отраслями законодательства, а лесного и водного права как самостоятельных отраслей права. А нормы гражданского права Лесным и Водным кодек- сами не устанавливаются. Мысль о самостоятельности отраслей лесного и водного права высказал С.В. Коростелев. Об этом пишут А.Ю. Пуряева и А.С. Пуряев [12, абз. 317, 333].
Однако есть и противоположные мнения. Так, в одном из изданий утверждается, что водное и лесное право не являются самостоятельными отраслями права, а входят в качестве подотраслей права в природоресурсное право [8, абз. 103]. Эта позиция представляется приемлемой, поскольку она препятствует экспансии гражданским правом лесного и водного.
Правоотношения, возникающие в процессе регулирующего воздействия права на земельные, лесные и водные отношения
Здесь речь идет о правоотношениях, возникающих в процессе, а не в результате правового регулирования, что автор статьи воспринял понимание правоотношения, идущее от Ю.К. Толстого [14, абз. 163]. Акцент на результат правового регулирования создает впечатление, что правоотношение существует тогда, когда уже процесс правового регулирования завершен, когда права участников правоотношения реализованы, а обязанности – исполнены. Но когда права реализованы, а обязанности исполнены, правоотношения прекращаются. Следовательно, правоотношения существуют только в процессе правового регулирования. Процесс прекратился и правоотношение прекратилось (одномоментно).
Если земельные, лесные и водные отношения в соответствии с п. 3 ст. 3 ЗК РФ, п. 2 ст. 3 ЛК РФ или п. 2 ст. 4 ВК РФ субсидиарно регулируются гражданским законодательством, возникают гражданские правоотношения. Это утверждение сталкивается с проблемой одновременного регулирующего воздействия на определенное общественное отношение нормы гражданского права (с одной стороны) и нормы земельного, или лесного, или водного права (с другой стороны). Методологический инструмент для решения такого рода проблем разработал Н.Г. Александров, который писал об элементарных правоотношениях как элементах сложных обязательств [1, с. 19, 20, 21; 2, с. 113; 3, с. 258–259].
Выводы
Таким образом, если есть норма гражданского права, которая в соответствующей части регулирует то или иное земельное, лесное, водное отношение, то правоотношение, возникающее в результате такого урегулирования не может считаться земельным, лесным или водным. Правоотношение – это форма, а форма идет от нормы как регулятора, а не от предмета правового регулирования.
Если же земельные, лесные или водные отношения регулируются положениями земельного, лесного и водного законодательств, которые всегда устанавливают исключительно нормы земельного, лесного, водного права, то в процессе такого регулирования возникают соответственно земельные, водные или лесные отношения.
Список литературы Об отраслевой принадлежности правовых норм, установленных земельным, лесным и водным законодательствами, и правоотношений, возникающих на их основании
- Александров, Н. Г. Юридическая норма и правоотношение / Н. Г. Александров. - М., 1947. -26 с.
- Александров, Н. Г. Законность и правоотношения в советском обществе / Н. Г. Александров. - М.: Госюриздат, 1955. - 176 с.
- Александров, Н. Г. Трудовое правоотношение / Н. Г. Александров. - М.: Юрид. изд. СССР, 1948. - 336 с.
- Анисимов, А. П. Правовой режим земельных участков: новый методологический подход к соотношению норм гражданского и земельного права / А. П. Анисимов, А. И. Меликов // Право и экономика. - 2008. - №2 12. - Доступ из справ.-пра-вовой системы «КонсультантПлюс».
- Быковский, В. К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое регулирование / В. К. Быковский. - М.: ВолтерсКлувер, 2009. - 220 с.
- Грось, Л. А. О сопоставлении понятий «гражданское законодательство», «гражданское право» и «земельное законодательство» в вещных правах на земельные участки / Л. А. Грось // Журнал российского права. - 2002. - № 9. - С. 38-45.
- Дозорцев, В. А. Проблемы совершенствования гражданского законодательства Российской Федерации при переходе к рыночной экономике / В. А. Дозорцев // Государство и право. - 1994. -№ 1. - С. 26. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации (постатейный) / С. А. Боголюбов, Н. В. Кичигин, М. В. Пономарев. - М.: Юстицин-форм, 2007. - 312 с.
- Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. С. А. Боголюбова. - М.: Проспект, 2017. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Лопухин, Д. А. Проблемные аспекты применения источников правового регулирования земельных отношений / Д. А. Лопухин // Гражданское право. - 2005. - № 4. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Маковский, А. Л. Гражданская законодательство. Пути развития / А. Л. Маковский // Право и экономика. - 2003. - № 3. - С. 35-43.
- Пуряева, А. Ю. Лесное право: учеб. пособие / А. Ю. Пуряева, А. С. Пуряев. - М.: Деловой двор, 2009 - 406 с.
- Суханов, Е. А. Проблемы совершенствования кодификации российского гражданского законодательства / Е. А. Суханов // Актуальные вопросы российского частного права: сб. ст., посвящ. 80-летию со дня рождения профессора В.А. Дозорцева / сост. Е. А. Павлова, О. Ю. Шилохвост. - М.: Статут, 2008. - 350 с. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Толстой, Ю. К. Избранные труды о собственности и правоотношениях / Ю. К. Толстой. -Л.: Закон, 2017. - 1008 с.
- Чубаров, В. В. Развитие кодификации российского земельного законодательства (взгляд с позиции земельного права) / В. В. Чубаров // Кодификация российского гражданского права / под ред. П. В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2015. - 447 с. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».