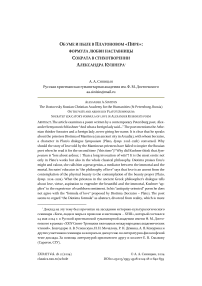Об уме и пыле в платоновом «Пире»: формула любви наставницы Сократа в стихотворении Александра Кушнера
Автор: Синицын А.А.
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.18, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается стихотворение современного петербургского поэта Александра Семеновича Кушнера «А то, что говорила чужестранка…» В нем поэт упоминает афинского мыслителя Сократа и «чужестранку»/«чужеземку», не называя ее по имени. Понятно, что речь идет о Диотиме, жрице из Мантинеи (древний город в Аркадии), о беседе с которой рассказывает Сократ, герой диалога Платона «Пир» (Plato, Symp . 201d-212b). Почему рассказ о любви мантинейской жрицы при повторном прочтении диалога («на этот раз») не вдохновил русского поэта? Почему Кушнер считает, что в «Пире» «меньше пыла, / Чем длинной апелляции к уму»? Это самый эротический диалог не только в платоновском корпусе, но, пожалуй, и во всей европейской классической философии. Диотима прославляет могущество и мужество Эрота, которого она называет великим гением, посредником между бессмертным и смертным. Наставница Сократа в «философии любви» говорит, что любовь - это восхождение от созерцания телесной красоты к созерцанию прекрасного самого по себе (Plato, Symp . 210а-212а). То, что у древнегреческого философа жрица рассказывает о любви, добродетели, стремлении родить в прекрасном и бессмертии, Кушнер «примеряет» к опыту земного чувства. В своем «антиковедческом» стихотворении он не соглашается с той «формулой любви», которую предлагает Диотима (Сократ = Платон). По-видимому, «формула Диотимы» кажется поэту философической, абстрактной, оторванной от действительности, которая более многогранна и сложна, чем любая теория. В этом «неплатоническом» произведении Кушнер, оттолкнувшись от платоновского «Пира», говорит о том, что любовь не может быть подчинена какой-либо «формуле».
Русский поэт, a. с. кушнер, античные мыслители, философия, сократ, «пир», диотима, смерть, любовь, эрос, ирония, рецепция, анализ стихотворения
Короткий адрес: https://sciup.org/147245819
IDR: 147245819 | DOI: 10.25205/1995-4328-2024-18-2-842-859
Текст научной статьи Об уме и пыле в платоновом «Пире»: формула любви наставницы Сократа в стихотворении Александра Кушнера
В данном очерке я выскажу замечания к одному «антиковедческому» стихотворению современного классика, петербургского поэта Александра Семеновича Кушнера «А то, что говорила чужестранка…». В нем автор ссылается на диалог Платона «Пир» и критикует теорию ἐρωτικά, изложенную в нем афинским философом. Неожиданная кушнеровская рецепция платоновской философии любви вызывает интерес и побуждает к дискуссии.
Впервые стихотворение «А то, что говорила чужестранка…» было опубликовано в поэтическом цикле «На вашей стороне» в первом номере журнала «Знамя» за 2006 год. Приведу это платоновско-сократическое (или, пожалуй, антиплатоновское и антисократическое) сочинение А. С. Кушнера полностью:
А то, что говорила чужестранка
Сократу о любви, на этот раз
Меня не вдохновило — лишь осанка
Ее была отрадою для глаз.
5 Нам дорого, что скажет чужеземка,
Свою бы мы не приняли всерьез,
Подумали б сто раз мы перед тем, как
Прийти в азарт от рук ее и кос.
И что она о страсти говорила
10 И благом называла, — почему?
Я «Пир» перечитал. В нем меньше пыла,
Чем длинной апелляции к уму.
Впотьмах я налетел на спинку стула,
Об угол я ударился стола,
15 Хотя бы раз рукой слезу смахнула!
Обманутой ни разу не была?
Не видела, как, взгляд уставив в точку,
Стальное дуло держат у виска,
Как к сердцу клен несет свою примочку,
20 Осиротев, мрачнеют облака?
Нет формулы. И мел крошить не надо.
Что можно взять и вынести хоть раз
В любви за скобку? Нежность, мрачность взгляда
На этот мир, смятенье? — Только нас!
В стихотворении упоминаются афинский философ Сократ и женщина, которая является его наставницей в любви, вернее, в философском истолковании этой категории. Поэт говорит о «чужеземке», «чужестранке», не называя ее по имени, но понятно, что это не какая-то безымянная женщина, обучающая Сократа «любвиологии». Здесь подразумевается мантинеянка Диотима — жрица, о которой Платон рассказывает в «Пире» (201d–212b)2.
После диалога с хозяином симпосия Агафоном, герой Сократ говорит собравшимся в доме афинского трагедиографа:
Я попытаюсь передать вам речь об Эроте, которую услыхал некогда от одной мантинеянки, Диотимы, женщины очень сведущей и в этом и во многом другом и добившейся однажды для афинян во время жертвоприношения перед чумой десятилетней отсрочки этой болезни, — а Диотима-то и просветила меня в том, что касается любви, — так вот, я попытаюсь передать ее речь, насколько это в моих силах, своими словами… (Plato. Symp . 201d)3
В русском переводе С. К. Апта, в котором А. С. Кушнер читал «Пир» Платона (это я поясню ниже), слово «чужеземка» в отношении Диотимы дважды встречается в рассказе Сократа: «…выяснить это так же, как некогда та чужеземка (ἡ ξένη)…» (Plato. Symp . 201е)4; Сократ обращается к Диотиме: «Пусть так, чужеземка (ὦ ξένη), ты говорила прекрасно…» (204c)5. Есть и еще один случай с Диотимой-ξένη, но в переводе С. К. Апта слово «чужеземка» здесь упущено: «О, любезный Сократ! — сказала чужеземка-мантинеянка
(ἡ Μαντινικὴ ξένη)…» (211d). Из аптовского перевода «Пира» А. С. Кушнер и позаимствовал «чужеземку». Древнегреческое слово ξένη означает «чужачка», «чужеземка», «иноземка», т. е. женщина, живущая в другом городе, в отличие от гражданки полиса6. Это слово также имеет значение «чужестранка», «иностранка», т. е. жительница иной страны, но называть «чужестранкой» эллинку из другого полиса все-таки не корректно, поскольку древняя Эллада не была единым государством. У Платона в рассказе Сократа слово ξένη в отношении Диотимы означает то, что она не афинянка . Как неоднократно говорит герой «Пира» Сократ, Диотима происходила из Мантинеи — полиса, который находился в Аркадии (области в центральной части Пелопоннеса), примерно на расстоянии двухдневного пути от Афин. Высказывались предположения о том, что Диотима могла быть странствующей жрицей, которая переходила из полиса в полис и предлагала свои услуги разным греческим городам, включая Афины7.
В рассказе о Диотиме Сократ несколько раз указывает на то, что неоднократно с ней встречался и многому у нее научился. Обращаясь к мантине-янке, он говорит: «Если бы я мог (пояснить то, о чем спрашивает Диотима. — А. С .), <…> я не восхищался бы твоей мудростью и не ходил к тебе, чтобы всё это узнать» (Plato. Symp . 206b). А в другом месте философ признается: «Но ведь я же, как я только что сказал, потому и хожу к тебе, Диотима, что мне нужен учитель (διδασκάλων δέομαι)» (207c)8. Мудрая мантинеянка обучает своего ученика познанию ἐρωτικά, используя типичную сократовскую технику беседы: вопросы и ответы, вызывающие апорию9.
В стихотворении «А то, что говорила чужестранка…» А. С. Кушнер называет платоновский «Пир» (стрк. 11), упоминает об основной теме этого диалога, однако имя наставницы Сократа не указывает. При этом поэт обращает внимание на внешность женщины. Но у Платона говорится только о внутренних качествах человека, о его сознательно-духовной эротической эволюции, о пути-в-любви и порождении.
Вот каким путем нужно идти в любви — самому или под чьим-либо руководством: начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самогó прекрасного вверх — от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь наконец, что же это — прекрасное. И в созерцании прекрасного самого по себе, дорогой Сократ, — продолжала мантинеянка, — только и может жить человек, его увидевший (Plato. Symp . 211с–d)10.
Передавая свой разговор с Диотимой, Сократ рассуждает о стремлении к духовному постижению красоты в любви, о пути к созерцанию αὐτὸ τὸ καλóν («само по себе прекрасное»). В «Пире» Платона речь не идет о форме (взгляде, волосах, осанке, одеянии), напротив, мантинеянка, которой внемлет философ, поучает: «Прекрасное это предстанет ему не в виде какого-то лица, рук или иной части тела…» (211а), и тот восторг, что испытывает узревший αὐτὸ τὸ (θεῖον) καλóν, несравним ни с какими оче-видными (созерцаемыми физическим зрением) красотами, «ни со златотканой одеждой, ни с красивыми мальчиками и юношами» (211d).
Однако А. С. Кушнер акцентирует внимание на том, что « лишь осанка / Ее (пестуньи Сократа. — А. С .) была отрадою для глаз». Неужели только внешность героини платоновского диалога привлекает внимание? Осанка наставницы была отрадой для глаз Сократа? — Вовсе нет! Здесь имеется ввиду лирический герой (=автор стихотворения), воображающий облик иноземки, и, конечно, умозрящий читатель, оптику которого автор настраивает таким способом. Платона, как и его героя Сократа, не интересуют внешние данные Диотимы, поэтому у древнегреческого философа ничего об этом не сказано. А вот русский поэт, оттолкнувшись от античного текста о сущности ἐρωτικά и пути к постижению оной сущности, сосредотачивается именно на виде, наружности, т. е. εἶδος. Возможно, читая этот платоновский диалог, А. С. Кушнер представлял героиню из одноименного телефильма Марко Феррери
( Le Banquet , Италия–Франция, 1989), где роль мудрой наставницы Сократа исполнила прославленная греческая актриса театра и кино Ирен Папас (Ирини Папа, 1929–2022). Ее выразительные глаза, брови, ресницы, губы, волосы, осанка, одеяние и прочие внешние детали образа — все это, действительно, является «отрадою для глаз» зрителя кинокартины М. Феррери. И, глядя на прекрасный облик Диотимы-Папас, можно «прийти в азарт от рук ее и кос» (как пишет о женщине А. С. Кушнер, стрк. 8). Впрочем, эта отсылка к фильму по мотивам древнегреческого «Пира» — лишь мои домыслы, попытка объяснить «визуальное» восприятие поэтом очаровательной ( sic! ) иноземки из платоновского диалога. Откуда А. С. Кушнер их взял для образа наставницы Сократа — остается лишь гадать, но, как становится ясно далее, вполне объяснимо, зачем он здесь концентрирует внимание на внешних данных.
Это еще одно философическое стихотворение А. С. Кушнера11, в котором не просто делается отсылка к платоновским сочинениям, но поэт вступает в спор с древнегреческим философом, возражает первоакадемику. Он признается, что перечитал «Пир» (стрк. 11), и что «на этот раз» перечитанное его «не вдохновило» (стркк. 2–3). Значит, при предыдущем прочтении (или прочтениях?) «Пира» содержание этого диалога вызывало в поэте иные чувства, и прежде он был согласен с эротической теорией Диотимы (Сократа=Пла-тона)? А теперь лишь внешность жрицы восхитила Кушнера как читателя Платона ( sic! ).
Главный мотив первой части стихотворения можно выразить евангельской фразой: нет пророка в своем отечестве (Мф. 4:24). Начиная с указания на то, что Сократ внемлет «чужестранке», поэт поясняет: «Свою бы (предсказательницу. — А. С.) мы не приняли всерьез» (стрк. 6). Для чего эта «оговорка» об иноземной пророчице в целую строфу, что является отступлением от темы «Пира»? Поэт считает, что мы прислушиваемся только к мнению чужаков, а те же самые слова из уст отечественных пророков вызывают у нас недоверие, отторжение или просто улыбку (своих всерьез не воспринимаем). Так что привлекают нас не сами высказанные идеи, но фигура того, кто их произносит. И далее А. С. Кушнер поясняет, что потому-то и нравится рассказчица, что она иноземка: даже не внешний вид мантинеянки, а осознание того, что она — «дама заграничная», приводит в восторг, понимание этого, как пишет поэт, вводит «в азарт», возбуждает. О Диотиме Сократ говорит как о «женщине очень сведущей» в искусстве ἐρωτικά и во многом другом, однако наш поэт ее теорию не воспринимает.
Центральной является третья строфа стихотворения (стркк. 9–12), где речь идет о страсти и благе, пыле и уме в диалоге «Пир»:
И что она о страсти говорила
И благом называла, — почему?
Я «Пир» перечитал. В нем меньше пыла,
Чем длинной апелляции к уму.
В русском переводе слова «благо» и plur. «блага» (τὸ ἀγαθόν, τὰ ἀγαθά) встречаются десятки раз в речах персонажей «Пира». И свыше 10 раз слово «благо» Платон употребляет в описании диалога Сократа с Диотимой, особенно в начале их разговора, когда собеседники договариваются о предмете обсуждения. Наставница спрашивает своего воспитанника: «Ну, а если заменить слово “прекрасное” словом “ благо ” (ἀντὶ τοῦ καλοῦ τῷ ἀγαθῷ ) и спросить тебя: “Скажи, Сократ, чего хочет тот, кто любит благо (τῶν ἀγαθῶν)?” (Plato. Symp . 204е), и далее Диотима соглашается со своим собеседником: «Правильно, счастливые счастливы потому, что обладают благом (ἀγαθῶν)» (205a)12 (в оригинальном тексте в обоих случаях слово "благо" указано во множественном числе). Сопряжение любви, красоты и блага — одна из главных тем «Пира»13. Многократно в речах персонажей диалога встречаются слова «страсть», «вожделение» (ἐπιθυμία, ἡδονή). Но всё то, «что она (Диотима. — А. С .) о страсти говорила» (стрк. 9), связано не с похотью, а с желанием де-торождения14.
В чем, по-твоему, Сократ, причина этой любви и этого вождения (τούτου τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἐπιθυμίας)? Не замечал ли ты, в сколь необыкновенном состоянии бывают все животные, и наземные и пернатые, когда они охвачены страстью деторождения? Они пребывают в любовной горячке сначала во время спаривания, а потом — когда кормят детенышей, ради которых они готовы… сносить все, что угодно (Plato. Symp . 207а–b)15.
Диотима учит тому, что любовь — это «стремление родить и произвести на свет в прекрасном» (206е), она есть «стремление к бессмертию» (207a). Говоря о любви как добродетели, наставница Сократа говорит о людях, которые беременны духовно:
кто смолоду вынашивает эти качества, храня чистоту и с наступлением возмужалости, но испытывает страстное желание родить , тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасное, в котором он мог бы разрешиться от бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит (209b)16.
Теперь по поводу пыла , который поэт не почувствовал в «Пире».
Но прежде надо сказать о русском переводе этого диалога. Слово «пыл» встречается в стихотворении А. С. Кушнера (стрк. 7) в значении душевных страстей, поскольку противопоставляется «уму» — рассудочному, теоретическому и… холодному (антоним словам «горячий, пылкий»). Совершенно ясно, что поэт читал диалоги Платона в четырехтомном издании, вышедшем в серии «Философское наследие»17. В том же втором томе собрания сочинений Платона (1993), где помещен диалог «Пир», диалог «Парменид» завершает этот небольшой том (в сравнении с тремя остальными томами этого издания). Как и «Пир», это «пересказанный» диалог Платона: некий Кефал рассказывает своим друзьям о беседе, произошедшей когда-то давно. У А. С. Кушнера есть стихотворение «Парменид», написанное по мотивам одноименного платоновского диалога. Впервые оно было опубликовано в поэтическом цикле «На вашей стороне» в том же номере журнала «Знамя», что и стихотворение «по мотивам» диалога «Пир». В кушнеровском «Пармениде» задействованы те же персонажи, что и в диалоге Платона: пожилой Парменид и юноша по имени Аристотель, беседующие друг с другом (Plato. Parm. 137е–166с). Парменид — знаменитый философ, приехавший в Афины из Элеи вместе с философом Зеноном, а юный Аристотель влюблен в философию и диалектику (по-видимому, тот самый человек, который станет государственным деятелем в Афинах в последней трети V в. до н. э.). В «Пармениде» Платона присутствует и Сократ, тогда еще совсем молодой человек. Он беседует с Зеноном Элейским (Plato. Parm. 126с, 127с–136е). Но русский поэт не упоминает его в своем сочинении, сосредоточившись на теме разговора Парменида и Аристотеля о едином-беспредельном. Стихотворение А. С. Кушнера «Парменид» также написано в диалогической форме — маленькая философическая драма по мотивам Платона. Именно по мотивам, так как в этом кушнеровском стихотворении встречаются не только отсылки к «Пармениду», но и прямые цитаты из первоисточника. Вот, например, начало стихотворения:
Парменид: Если нет у него ни конца, ни начала, значит, то, что зовётся единым, и впрямь беспредельно. Аристотель: Воистину так, и не скажешь, что мало.
Парменид: И не прямо, не кругло, — едино и цельно, не имеет частей.
Аристотель : Какие уж части?
Парменид : И не может нигде находиться, ни в нас, ни снаружи.
Аристотель : Скажи, почему?
Парменид: В нашей власти только то, что конечно. А то, что снаружи — тем хуже: непременно бы вписано было в окружность особым способом.
Аристотель : Конечно. Теперь понимаю.
Этот фрагмент стихотворения-диалога повторяет (почти) полностью перевод Н. Н. Томасова платоновского «Парменида» 137d–е18. В переложенном в стихотворный размер пассаже (как и в целом в этом диалоге) — всё сплошь «апелляция к уму». «Парменид» считается образчиком платоновской диалектики и логики. В конце стихотворения А. С. Кушнер как бы прерывает пересказ «заумной» беседы Парменида с Аристотелем и восклицает:
И так далее… Господи, как надоели мне оба!
Представляю, как я бы томился, присутствуя с краю разговора, в тени.
Поэт сожалеет о том, что «взял почитать диалоги (Платона. — А. С .) на дачу». Этим чтением он испортил свой отдых! В стихотворении «Парменид» А. С. Кушнер указывает имена редакторов этого платоновского четырехтомника: «Ах, напрасно я взял почитать диалоги на дачу. / Тахо-Годи пускай их читает, и Асмус, и Лосев». Эта ирония поэта является авторской «ссылкой» на конкретное издание, которое он перечитывал у себя на даче. Здесь А. С. Кушнер пишет, что не смог дочитать диалог Платона, что «завяз» и признается: «Диалоги / Кто-нибудь дочитал до конца? Лишь в плену, поневоле».
А в последней строке своего «Парменида» поэт говорит, что освобождает себя из «плена»: «Не дочитаю. Ведь сердце свободно!»
Автором русского перевода «Пира» во втором томе Платона является С. К. Апт. И слово «пыл» в русском «Пире» встречается единственный раз в речи Диотимы, когда она говорит о любви и благе, обращаясь к Сократу: «Ну, а если любовь — это всегда любовь к благу, то скажи мне, каким образом должны поступать те, кто к нему стремится, чтобы их пыл и рвение можно было назвать любовью ( ἡ σπουδὴ καὶ ἡ σύντασις ἔρως ἂν καλοῖτο)? Что они должны делать, ты можешь сказать?» (206b)19. Древнегреческое слово σπουδή, которое имеет значения «усердие, старание, стремление, рвение»20, русский переводчик «Пира» передает здесь (в поучении Диотимы) словом «пыл». А. С. Кушнер включает слово «пыл» в свое философическое «антиплатоновское» стихотворение на тему прочитанного и не взволновавшего его «Пира».
А. С. Кушнер считает, что в «Пире» Платона «меньше пыла, / Чем длинной апелляции к уму». Но, пожалуй, именно в «Пире» больше всего «пыла», нежели в других платоновских диалогах. «Апелляция к уму» противопоставляется поэтом чувственности и страсти. В этом диалоге присутствуют сразу два поэта-драматурга, причем представители разных видов драматической поэзии: трагедии — это Агафон, в доме которого происходит симпосий, и комедии — поэт Аристофан, в уста которого Платон здесь влагает знаменитый рассказ об андрогинах (Plato, Symp. 189с–193е). Платон показывает комедиографа верным служителем музы Талии, который не боится показаться смешным, ведя философские беседы за одним столом с Сократом. На замечание Эриксимаха не острословить и не зубоскалить, Аристофан отвечает со смехом, вполне по-сократовски: «не того боюсь я, что скажу что-нибудь смешное, — это было бы мне на руку и вполне в духе моей Музы, — а того, что стану посмешищем» (189b)21. Аристофановская притча о двух половинах человека — один из самых известных платоновских мифов22. Герой «Пира», служитель Талии, рассказывает, что «каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет
Платон 1993b, 116.
Ср. Astius 1838, 269–270, s. v . σπουδή.
Платон 1993b, 97.
Наряду с мифом об Атлантиде, изложенном в диалогах «Тимей» и «Критий»,
мифами о пещере и загробных воздаяниях в «Государстве», мифами в «Федоне», «Политике» и других диалогах. Платон как мыслитель и художник был непревзойденным неомифологом из всех античных философов.
всегда соответствующую ему половину» (191d)23, и подводит итог: «любовью называется жажда целостности и стремление к ней» (193а)24.
Эрот и теперь приносит величайшую пользу, направляя нас к тому, кто близок нам и сродни, он сулит нам, если только мы будем чтить богов, прекрасное будущее, ибо тогда сделает нас счастливыми и блаженными, исцелив и вернув нас к нашей изначальной природе (193d)25.
Платоновский «Пир» — это драма с прологом и эпилогом. Повествование ведется от имени одного из последователей Сократа, Аполлодора Фалер-ского. Рассказчик передает живую застольную беседу, которая произошла много лет назад. Взаимодополняющие λόγοι περὶ Ἔρωτος симпосиастов включают несколько мифов. Пылкая речь Аристофана во славу Эрота, как и речи Федра, Эриксимаха, Агафона, Сократа, показывают, что в «Пире» не только представлен разговор о страсти, но присутствует и сама страсть разговора . Собеседники увлеченно и увлекательно рассуждают о красоте и благе, о величии и совершенствах гения любви Эрота, о философии-как-любви26. Первые речи-тосты во славу Эрота и Афродиты подготавливают Сократовы суждения. Как рассказывает Сократ (в пересказе Аполлодора своему приятелю Главкону), Диотима излагает миф о союзе Пороса с Пенией и рождении Эрота (Plato, Symp. 203b–е), который δαίμων μέγας (великое божество) и «по самой своей природе любит красивое» (203с), поскольку «находится посредине между мудростью и невежеством» (204а). Диотима говорит о продуктивной потенции любви, связывая эротику с ποίησις — с творчеством, которое является «переходом из небытия в бытие», а люди, которые заняты созданием произведений искусства и ремесла, называются «творцами» (ποιηταί) (см. 205b–с). И в этом заключается та «поэтика правды» Сократа, о которой он заявляет перед тем, как произнести похвальное слово богу любви (199b)27.
Мифопоэтические истолкования аттическим комедиографом Аристофаном и мантинейской жрицей Диотимой сущности Эрота и эротики — образны, ярки, красивы и глубоки. Любовь — это стремление человека к утраченной им цельности; это путь к постижению прекрасного и путь к бессмертию. Еще раз отмечу: «Пир» — самый страстный и пылкий диалог Платона28.
О Сократе в платоновском «Пире» и признании в разочарованности от повторного чтения диалога говорится в первой части стихотворения А. С. Кушнера «А то, что говорила чужестранка…» — она составляет первые три строфы. На этом заканчиваются отсылки к платоновскому «Пиру». Три следующие строфы — о разоблачении «формулы Диотимы». Почему же поэт разочаровался в «Пире» и не оценил речь мудрой иноземки о страсти и благе? Потому что данная речь, как и весь диалог в целом, показались ему бесстрастными, пространными и заумными: «В нем (платоновском “Пире”. — А. С .) меньше пыла , / Чем длинной апелляции к уму » (стркк. 11–12). Он считает, что «формула любви», предложенная Диотимой, — чересчур теоретична, утопична, идеальна, а поэтому оторвана от жизни. Ибо в реальной жизни всё иначе. И три последних строфы стихотворения — опровержение платоновско-сократовского понимания ἐρωτικά. Здесь нивелируется метафизическая направленность речи Диотимы.
После первых трех строф, где автор делится своими впечатлениями от нового прочтения «заумно-длинного» платоновского диалога, следует своеобразная «перипетия». Четвертая строфа стихотворения начинается с описания бытового случая: лирический герой (=автор) налетел впотьмах на спинку стула и ударился об угол стола. Происходит смена интонации в стихотворении. Здесь я замечу о таком элементе лирики А. С. Кушнера, как ирония, которая является специфическим приемом его авторского стиля29 (свойственная и манере беседы Сократа). Исследователи лирики А. С. Кушнера уже не раз отмечали, что мир его поэзии наполнен вещами, что автор часто акцентирует внимание на, казалось бы, совершенно бытовых мелочах30, которые задействованы в его произведениях и играют свои роли. Этим столкновением в темное время со стулом и столом в своей комнате поэт как бы пытается свести «с небес на землю» темы λόγοι περὶ Ἔρωτος, которые составляют «Пир» Платона. Он не только «приземляет», но и осовременивает проблему: появляется «стальное дуло [пистолета]… у виска» (стрк. 18). Автор стихотворения обращается к платоновской чужеземке, речь которой была лишь «длинной апелляцией к уму» и поэтому его не вдохновила. Эту женщину поэт представляет слишком суровой, холодной, бесстрастной («Хотя бы раз рукой слезу смахнула!»), а ее теорию — сугубо абстрактной игрой ума. По мнению А. С. Кушнера, платоновское толкование любви — слишком уж философично, и тому, кто был обманут в любви и страдал, все эти рассуждения не способны помочь. Поэт приводит пример с попыткой самоубийства, надо полагать, из-за случившейся измены (намек на это есть в конце предыдущей строфы: «Обманутой ни разу не была?», стрк. 16).
Подобно тому, как поэт пытается освободиться из «плена» платоновского «Парменида», он отстраняется от теории любви, изложенной Диотимой (Со-кратом=Платоном), поскольку она не действенна. В последней, шестой, строфе А. С. Кушнер констатирует, что вообще нет и не может быть никакой формулы любви («Нет формулы. И мел крошить не надо»). Самоубийство, — как один из выходов неразделенной любви, тем паче измены, — о котором здесь говорит поэт, это не только убийство себя, но, с платоновской позиции, является покушением на всё то, что может породить человек — бесконечное число миров. У Платона говорится о бессмертии, о продолжении жизни — физическом и духовном (в творчестве), а А. С. Кушнер использует пример физической смерти. «Формула Диотимы» относится не к страстям человеческим, а говорит о познании и вечной жизни, о философии как любви к прекрасному, в чем Эрот выступает посредником.
Платоновский «Пир» стал для А. С. Кушнера поводом для того, чтобы высказать свое мнение о «формуле любви», вернее, о невозможности вывести такую формулу. И при всякой попытке составить такую формулу, необходимым условием является выведение «за скобки» нас самих. Стихотворение современного философствующего поэта «А то, что говорила чужестранка…» стало опытом художественного прочтения-истолкования одного из самых эротичных диалогов античной классики. Признание автора, перечитавшего «Пир» в том, что разговор «чужестранки» с Сократом его не вдохновил — это, скажем так, лирический обман. Поскольку, надо понимать, что как раз новое прочтение диалога Платона вызвало в поэте возражение, что и вдохновило его на написание этого стихотворения «по мотивам» платоновского «Пира».
Список литературы Об уме и пыле в платоновом «Пире»: формула любви наставницы Сократа в стихотворении Александра Кушнера
- Алешка, Т. В. (2002) “Вещный мир поэзии А. Кушнера,” Научные труды кафедры русской литературы Белорусского государственного университета 1, 3–9.
- Арьев, А. Ю. (2000) Царская ветка. СПб.
- Вытушняк, А. Н. (2011) “Игра как проявление акмеистической иронии в лирике А. С. Кушнера,” Мир русского слова 1, 84–88.
- Галанин, Р. Б. (2022) “Теология Сократа: бог Эрот,” Платоновские исследования 17/2, 28–50.
- Гончарко, О. Ю. (2021) “Диотима Мантинейская: к вопросу об историческом существовании и философском наследии,” Вестник Русской христианской гуманитарной академии 22/2, 74–82.
- Иванова, В. И. (2016) “«Вечность» и «вещность» в сборнике А. Кушнера «Ночной дозор»,” Уральский филологический вестник 5, 149–155.
- Иванова, В. И. (2017) “Мотив материализации души в ранней лирике Александра Кушнера,” Уральский филологический вестник 5, 44–50.
- Калинников, Л. А. (2010) “Вопросы поэта А. С. Кушнера к философу И. Канту о проблемах потусторонних,” Кантовский сборник 3, 33–51.
- Кудрявцева, И. А. (2004) Поэт и процесс творчества в художественном сознании А. Кушнера. Дис. … канд. филолог. наук. Череповец.
- Кулагин, А. В. (2017) Кушнер и русские классики. Коломна.
- Кулагин, А. В. (2020) Поэтический Петербург Александра Кушнера. Изд. 2-е, испр. и доп. Коломна.
- Нейлз, Д. (2019) Люди Платона. Просопография Платона и других сократиков / пер. с англ. А. В. Белоусова и др.; под общ. ред. А. И. Золотухиной; науч. ред. О. В. Алиева. М.
- Платон (1968–1972) Собрание сочинений в 4 т. М.
- Платон (1990–1994) Собрание сочинений в 4 т. М.
- Платон (1993а) “Парменид,” Пер. Н. Н. Томасова, in А. Ф. Лосев, В. Ф. Асмус, А. А. Тахо-Годи (ред.) Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. М., 346–412.
- Платон (1993b) “Пир,” Пер. С. К. Апта, in А. Ф. Лосев, В. Ф. Асмус, А. А. Тахо-Годи (ред.) Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. М., 81–134.
- Поддубко, Ю. В. (2014) “Категория вечности в поэтическом сознании А. Кушнера,” Русская филология 3, 63–68.
- Поддубко, Ю. В. (2015) Мотивно-образная система лирики А. Кушнера: Дис. … канд. филолог. наук. Харьков.
- Пьяных, М. Ф. (2005) “Кушнер Александр Сергеевич,” Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь в 3 томах. М., Т. 2, 389–392.
- Пэн, Д. Б. (1992) Мир в поэзии А. Кушнера. Ростов-на-Дону.
- Смирнова, П. О., Прокофьева, И. О. (2023) “Предметный мир в поэзии Александра Кушнера,” Молодой ученый 49, 491–493. URL: https://moluch.ru/archive/496/108659 (дата обращения: 15.05.2024).
- Суханова, С. Ю., Цыпилёва, П. А. (2014) “Функции античного претекста в лирике А. Кушера,” Вестник Томского государственного университета. Филология 2, 126–141.
- Фетисова, Е. Э. (2017) “Философия и романтическая эстетика «шестидесятников»: стоицизм А. Кушнера,” Философия и культура 2, 151–161. URL: file:///D:/Downloads/filosofiya-i-romanticheskaya-estetika-shestidesyatnikov-stoitsizm-a-kushnera.pdf (дата обращения: 17.05.2024).
- Ячник, Л. Н. (2015) Интертекстуальность и русская поэтическая традиция в творчестве Александра Кушнера: Дисс. … канд. филолог. наук. Киев.
- Addey, C. (2022) “Diotima, Sosipatra and Hypatia: Methodological Reflections on the Study of Female Philosophers in the Platonic Tradition,” in J. Schultz, J. Wilberding (eds.) Women and the Female in Neoplatonism. Leiden, 9–40.
- Addey, C. (2024) “The Reception of Diotima in Later Platonism: Clea, Sosipatra and Asclepigeneia,” in S. Brill, C. McKeen (eds.) The Routledge Handbook of Women and Ancient Greek Philosophy. New York, 461–481.
- Astius, F. (1836) Lexicon Platonicum, sive vocum Platonicarum. Vol. II. Lipsiae.
- Astius, F. (1838) Lexicon Platonicum, sive vocum Platonicarum. Index. Vol. III. Lipsiae.
- Brisson, L. (2006) “Agathon, Pausanias, and Diotima in Plato’s Symposium: Paiderastia and Philosophia,” in J. Lesher et al. (eds.) Plato’s Symposium. Issues in Interpretation and Reception. Washington, 229–251.
- De Luise, F. (2012) “Il sapere di Diotima e la coscienza di Socrate. Note sul ritratto del filosofo da giovane,” in A. Borges de Araújo Jr e G. Cornelli (a cura di) Il Simposio di Platone: un banchetto di interpretazioni. Napoli, 115–138.
- Evans, N. (2006) “Diotima and Demeter as Mystagogues in Plato’s Symposium,” Hypatia 21/2, 1–27.
- Ferreri, F. (2012) “Eros, paideia e filosofia: Sócrates antre Diotima e Alcibíades,” Arcai: Revista de Estudos Sobre as Origens Do Pensamento Ocidental 9, 65–71.
- Frede, D. (1993) “Out of the Cave: What Socrates Learned from Diotima,” in R. M. Rosen, J. Farrell (eds.) Nomodeiktes: Greek Studies in Honor of Martin Ostwald. Ann Arbour, 397–422.
- Halperin, D. M. (1990) “Why Is Diotima a Woman? Platonic Erōs and the Figuration of Gender,” in D. M. Halperin, J. J. Winkler, F. I. Zeitlin (eds.) Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World. Princeton, 257–308.
- Irigaray, L. (1994) “Sorcerer Love: A Reading of Plato’s Symposium, Diotima’s Speech,” in N. Tuana (ed.) Feminist Interpretations of Plato, University Park, 181–195.
- Keime, C. (2014) “La function de Diotime dans le Banquet de Platon (201d1–212c3): le dialogue et son double,” Études Platoniciennes 11. URL: http://journals.openedition.org/etudesplatoniciennes/535 (дата обращения: 14.05.2024).
- Keime, C. (2016) “The Role of Diotima in the Symposium: The Dialogue and Its Double,” in G. Cornelli (ed.) Plato’s Style and Characters: Between Literature and Philosophy. Berlin; Boston, 379–400.
- Kranz, W. (1926) “Diotima von Mantineia,” Hermes: Zeitschrift für klassische Philologie 61/4, 437–447.
- Layne, D. A. (2024) “Divine Names and the Mystery of Diotima,” in S. Brill, C. McKeen (eds.) The Routledge Handbook of Women and Ancient Greek Philosophy. New York, 267–283.
- Levin, S. B. (1975) “Diotima’s Visit and Service to Athens,” Grazer Beitrage 4, 223–240.
- Männlein-Robert, I. (2016) “Die Poetik des Philosophen: Sokrates und die Rede des Agathon,” in M. Tulli, M. Erler (eds.) Plato in Symposium. Selected Papers from the Tenth Symposium Platonicum. St. Augustin, 198–203.
- Miller, P. A. (2024) “Sarah Kofman: Socratic Lover,” in S. Brill, C. McKeen (eds.) The Routledge Handbook of Women and Ancient Greek Philosophy. New York, 569–582.
- Nails, D. (2002) The People of Plato: A Prosopography of Plato and other Socratics. Indianapolis.
- Nails, D. (2016) “Five Platonic Characters,” in G. Cornelli (ed.) Plato’s Styles and Characters: Between Literature and Philosophy. Berlin; Boston, 297–315.
- Neumann, H. (1965) “Diotima’s Concept of Love,” American Journal of Philology 86/1, 33–59.
- Nye, A. (1989) “The hidden host: Irigaray and Diotima at Plato’s Symposium,” Hypatia 3/3, 41–61.
- Nye, A. (1990) “The subject of love: Diotima and her critics,” The Journal of Value Inquiry 24, 135–153.
- Nye, A. (1994) “The Hidden Host: Irigaray and Diotima at Plato’s Symposium,” in N. Tuana (ed.), Feminist Interpretations of Plato, University Park, 197–216.
- Nye, A. (2015) Socrates and Diotima: Sexuality, Religion, and the Nature of Divinity, New York.
- Ortega, M., Layne, D. A. (2024) “Eros, the Elusive? A Dialogue on Plato’s Symposium, Diotima and Women in Ancient Philosophy,” in S. Brill, C. McKeen (eds.) The Routledge Handbook of Women and Ancient Greek Philosophy. New York, 599–609.
- Rabassó, G. (2021) “Erotics as a Branch of Philosophy: The Legacy of Diotima of Mantinea,” Ethics, Politics & Society: A Journal in Moral and Political Philosophy 4, 87–99.
- Rowe, C. J. (1999) “Socrates and Diotima: Eros, Immortality, and Creativity,” in J. J. Cleary, G. M. Gurtler (eds.) Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy. Leiden; Boston; Köln, 239–259.
- Saxonhouse, A. (1984) “Eros and the Female in Greek Political Thought: An Interpretation of Plato’s Symposium,” Political Theory 12/1, 5–27.
- Schindler, D. C. (2007) “Plato and the Problem of Love: On the Nature of Eros in the Symposium,” Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science 40/3, 199–220.
- Sier, K. (1997) Die Rede der Diotima. Untersuchungen zum platonischen Symposion. Stuttgart; Leipzig.
- Waithe, M. E. (1987) “Diotima of Mantinea,” in M. E. Waithe (ed.) A History of Women Philosophers. Vol. 1: Ancient Women Philosophers, 600 B. C–500 A. D. Dordrecht; Boston; Lancaster, 83–116.
- Wersinger, A.-G. (2012) “La voix d’une ‘savant’: Diotime de Mantinée dans le Banquet de
- Platon (201d–212b),” Cahiers “Mondes anciens” 3. URL: http://journals.openedition.org/mondesanciens/816.
- Wersinger, A.-G. (2013) “Diotima and kuèsis in the Light of the Myths of the God’s Annexation of Pregnancy,” Proceedings of the X Symposium Platonicum: “The Symposium”, Pisa, 15–20 July 2013, 134–140.
- Weschmann, L. M. (1997) Die Funktionen des Bildes und die Entwicklung des Bildsystems im Werk des russischen modernistishen Dichters A. S. Kušner. Münster.
- Wippern, J. (1965) “Eros und Unsterblichkeit in der Diotima-Rede des Symposions,” in H. Flashar, K. Gaiser (hrsg.) Synusia. Festgabe für Wolfgang Schadewalt. Pfüllingen, 123–129.