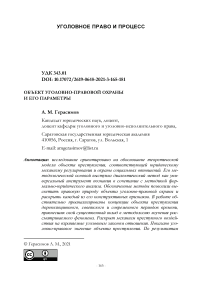Объект уголовно-правовой охраны и его параметры
Автор: Герасимов А.М.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
исследование ориентировано на обоснование теоретической модели объекта преступления, соответствующей юридическому механизму регулирования и охраны социальных отношений. Его методологической основой выступил диалектический метод как универсальный инструмент познания в сочетании с методикой формально-юридического анализа. Обозначенные методы позволили высветить правовую природу объекта уголовно-правовой охраны и раскрыть каждый из его конструктивных признаков. В работе обстоятельно проанализированы концепции объекта преступления дореволюционного, советского и современного периодов времени, привнесших свой существенный вклад в методологию изучения рассматриваемого феномена. Раскрыт механизм преступного воздействия на охраняемые уголовным законом отношения. Показано уголовно-правовое значение объекта преступления. По результатам исследования доказана состоятельность уголовно-правовой теории, позиционирующей объект преступления в качестве отношений, урегулированных на уровне позитивных отраслей законодательства.
Объект преступления, предмет преступления, уголовно-правовая охрана, правоотношения, преступное воздействие
Короткий адрес: https://sciup.org/147236811
IDR: 147236811 | УДК: 343.01 | DOI: 10.17072/2619-0648-2021-3-165-181
Текст научной статьи Объект уголовно-правовой охраны и его параметры
Объект уголовно-правовой охраны науке известен в качестве категории, характеризующей ориентированность общественно опасного посягательства. Относительно сущностных свойств объекта преступления сформировалось немало точек зрения, каждая из которых позиционируется как наиболее предпочтительная. Наблюдающиеся расхождения во взглядах исследователей, развивающих данное направление теории уголовного права, обусловлены принципиально разными методологическими подходами к оценке места и значения охраняемого уголовным законом объекта в системе уголовно-правовых отношений. Внести определенную ясность в массив предлагаемых дефиниций и выдвинутых гипотез позволит решение теоретических за- дач по установлению философской и методологической основы категории объекта уголовно-правовой охраны, обоснованию его фактической сущности и юридической оболочки, соотношению понятий объекта и предмета преступления.
В философии объект интерпретируется как «то, на что направлена активность (реальная и познавательная) субъекта»1. Всякая активность субъекта обязательно предполагает внеположный по отношению к нему объект. Некоторая антагонистичность субъекта и объекта в то же время выступает проявлением не обособленных реальностей, а двух полюсов в составе единого явления. В той сфере жизнедеятельности, где есть субъект, обязательно присутствует объект.
Философский посыл к пониманию категории объекта находит отражение в содержании объекта преступления как результата деятельности субъекта криминальной активности. В специальной литературе обнаруживаются несколько фундаментальных подходов к определению сущности объекта преступления, сформировавшихся в духе соответствующих исторических пластов развития уголовно-правовой науки. Традиционно выделяются концепции объекта преступления дореволюционного, советского и современного периодов времени, вносящих свой существенный вклад в методологию изучения рассматриваемого феномена.
В дореволюционный период широкую популярность приобрела теория объекта преступления как правового блага. Подавляющее большинство исследователей, работавших на рубеже XIX и XX вв., склонялось к необходимости объединения в искомом понятии юридического и фактического начал. Знаменитый русский ученый Н. С. Таганцев писал о праве в субъективном смысле: «…посягательство на норму права в ее реальном бытии есть посягательство на правоохраненный интерес жизни, на правовое благо»2.
Правовое благо рассматривалось в качестве собирательного явления, отражающего формальный и сущностный аспекты объекта преступного посягательства. При его характеристике наряду с несколько устаревшим сегодня словосочетанием «правовое благо» теоретики дореволюционного времени оперировали и такой терминологией, которая по своей семантике более применима к современному категориальному аппарату уголовного права. В частности, еще один популярный криминалист дореволюционной России Л. С. Белогриц-Котляревский писал, что «объектом преступления с формаль- ной стороны является норма, а с материальной – те жизненные интересы или блага, которые этими нормами охраняются»3. Исходя из смысла изложенных суждений, объектом преступного воздействия выступают урегулированные нормой права отношения, возникающие по поводу обеспечения интересов частных лиц или всего общества.
Один из известнейших основоположников отечественной теории уголовного права В. Д. Спасович акцентировал внимание на нескольких значимых аспектах рассматриваемой проблемы. Он отмечал, что объекты (предметы) преступления напрямую обусловлены правами человека, закрепленными в соответствующих нормах законодательства4. Юридические дозволения связывались с личными, материальными, духовными и иными благами. Однако сами по себе вещи, предметы, имущество, элементы природы, информация, убеждения вне сферы действия юридических норм не оценивались как самостоятельные объекты охраны. Они наделялись уголовно-правовым значением только в контексте отношений, возникающих по поводу реализации юридических прав.
Представленный доктринальный подход предвосхитил выстраивание современной модели уголовно-правового обеспечения материального порядка, центральным элементом которой провозглашается человек, обладающий естественными и приобретенными правами и свободами. Иные охраняемые уголовным законом отношения, обусловленные интересами общества и государства, рассматриваются в качестве элементов материального порядка, способствующих свободному существованию и благополучному развитию человека. Безопасность личности возведена российским законодателем в ранг уголовно-правового принципа.
Исключительно важно отметить, что В. Д. Спасович отводил определяющую роль юридической составляющей объекта преступления. По его утверждению, «преступления нет, когда нарушаемое право перестало пользоваться защитою закона и когда, таким образом, предмет преступления потерял свой юридический характер»5. Интересы человека, общества и государства, лишенные надлежащего юридического оформления, расценивались как эфемерные и не обладающие конкретными границами.
Изложенные и коротко проанализированные научные воззрения представляют чрезвычайную актуальность и сегодня. Ученым дореволюционного периода времени сформирована мощная методологическая основа развития учения об объекте преступления. Им удалось не только высветить сущностные аспекты анализируемого феномена, но и обосновать его формальные параметры. В духе обозначившихся идей вполне можно решать насущные научно-практические теоретические задачи по соотношению позитивного и уголовного законодательств, расстановке приоритетов в правовом регулировании и уголовно-правовой охране социальных отношений, разработке механизма взятия под охрану интересов личности, общества, государства, мира и безопасности человечества.
Взглядам представителей уголовно-правовой науки дореволюционного времени было суждено на длительное время остаться лишь частью истории. Известные глобальные преобразования начала прошлого века, приведшие к появлению советского государства, серьезным образом отразились на векторе развития отечественной уголовно-правовой доктрины. Не стала исключением анализируемая проблематика. Довлея над научной мыслью, господствующая в то время идеология побудила ученых к обоснованию политически выгодной теории объекта преступления как отношений, образующих основу советского строя.
Вполне закономерно, что свое начало советская теория объекта преступления взяла с резкой критики популярной среди ученых-криминалистов дореволюционной России категории правового блага, отражающей конкретную область юридического обеспечения интересов человека, социальных групп или государства. Так, А. А. Пионтковский в начале тридцатых годов прошлого столетия писал: «Непосредственным объектом преступлений y нас являются те или иные интересы всего рабоче-крестьянского государства или интересы отдельных граждан, поскольку их нарушение является социально опасным для системы отношений пролетарской диктатуры»6.
Очевидна переориентация фактических начал объекта уголовноправовой охраны с отдельных прав и свобод личности, законных интересов общества и государства на политические интересы публичной власти. Формальная составляющая объекта уголовно-правовой охраны при этом не упоминается вообще. Здесь представляет интерес точка зрения Б. С. Никифорова, несколько позже предложившего очертить границы охраняемого уголовным законом объекта посредством введения в оборот достаточно расплывчатой по своему значению категории «социальное установление». Демонстрируя полную преемственность взглядам А. А. Пионтковского, исследователь отмечал, что «преступление, нарушая то или иное условие нормального существования социального установления, тем самым причиняет вред самому
А. М. Герасимов ___________________________________________________________________ этому установлению и, следовательно, нарушает нормальное функционирование советского общества»7.
Идеологизированный подход к определению содержания объекта преступления в самом своем гипертрофированном виде был воплощен в Уголовном кодексе РСФСР, принятом 26 мая 1922 г. на 3-й сессии IX съезда Советов. Его часть 6 гласила: «Преступлением признается всякое общественноопасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени». Сформулированное законодательное положение в современной уголовно-правовой теории принято считать примером дефиниции преступления с ярко выраженной материальной сущностью. Главным признаком преступления в первые годы становления советского государства признавалась общественная опасность деяния, понимаемая как угроза основам советского строя и правопорядку. Рабочекрестьянская власть рассматривала объект преступления в качестве интересов публичных, оттеняя потребность в уголовно-правовой охране частных интересов граждан и отдельных социальных групп.
Уместно заметить, что в своих более поздних работах, заметно освободившихся от революционных настроений и идеологических штампов, систему сложившихся в социалистическом обществе отношений А. А. Пионтковский стал позиционировать как «общий объект преступления». Непосредственным объектом преступных посягательств он полагал «не сами общественные отношения, а их элементы: их материальное выражение – при посягательстве на социалистическую и личную собственность, их субъекты – при посягательстве на личность советского гражданина»8.
Деталь немаловажная, поскольку она переводит тематику сущностных характеристик объекта преступления на уровень структурных элементов общественного отношения. Одним из первых идею выделения в охраняемых отношениях некого центрального ядра пытался обосновать Б. С. Никифоров. «Отношения между людьми в обществе, – писал автор, – часто включают в себя различного рода состояния и процессы, и разнообразные предметы материального и нематериального мира – орудия и средства труда, его предмет и результаты, различного рода документы, всякого рода сведения и т. д. Не будучи сами по себе общественными отношениями, они в соответствующих случаях входят в “состав” этих последних и являются их неотъемлемой ча- стью. Именно потому, что такие предметы, вещи и состояние сами по себе не являются общественными отношениями, они могут входить в состав различных общественных отношений»9. В то же время Б. С. Никифоров проявлял осторожность в своих высказываниях, констатируя прямую связь охраняемых интересов с общественными отношениями: «Неправильно поэтому говорить, что в тех или иных случаях советское уголовное право охраняет не общественные отношения, а “интересы”. Охраняя интересы, оно тем самым охраняет социалистические общественные отношения, причем не в конечном счете, не “опосредствованно”, а самым непосредственным образом»10.
Большую категоричность в решении анализируемого вопроса проявил другой советский ученый В. К. Глистин, который отмечал: «Если согласиться с тем, что преступление не уничтожает и не изменяет охраняемых общественных отношений, то возникает вопрос, чем же вредно причинение ущерба отдельным элементам этих отношений, как можно, нанося вред составным частям целого, оставить без изменений само целое. В таком случае невозможно обосновать общественную опасность, вредность преступления»11.
Поставленная проблема представляет актуальность и сегодня. Преступление не может признаваться общественно опасным только потому, что причиняет какой-либо вред интересам личности, общества или государства, рассматриваемым в отрыве от общественных отношений. При таком подходе оно лишается своей материальной стороны и ничем не отличается от иных правонарушений, порождающих объективно выраженные вредные последствия. В уголовно-правовых аспектах общественная опасность является свойством строго определенной вредоносности, предполагающей создание угрозы материальному порядку, складывающемуся из отдельных социальных связей. Само семантическое значение общественной опасности изначально ассоциируется с угрозой разрушительного воздействия на социум. Сложно вообразить ситуацию, когда деяние, юридически оцениваемое как опасное для общества, не затрагивает фактических отношений между людьми.
Прав В. К. Глистин и в том, что концепция объекта преступления как автономного элемента общественного отношения «не позволяет выделить объективные критерии, характеризующие конкретный объект посягательства, а это необходимо при квалификации деяния, разграничении сходных посяга-тельств»12. Но здесь необходимо оговорится относительно одного важного аспекта. Представителям советской юридической науки было свойственно обосновывать формальные границы соответствующего объекта исходя из содержания нормы уголовного закона, направленной на обеспечение его охраны. Как отмечал В. С. Прохоров, «нарушение правопорядка есть нарушение общественных отношений, если, разумеется, правовая форма, “оболочка” общественных отношений адекватна самим общественным отношениям. Посягательство на защищаемое уголовным правом общественное отношение в силу этого есть одновременно посягательство на правовые отношения, а причиненный ущерб не только общественно опасен, но и уголовно противопра-вен»13.
Сделанное заключение представляется весьма спорным. Юридические границы охраняемого объекта не могут находить свою конкретизацию непосредственно в уголовном законе вследствие его функциональной специфики. Уголовно-правовые нормы ориентированы на сохранение отношений, которые уже получили необходимую упорядоченность в рамках регулятивного законодательства. Как справедливо отмечают А. Г. Блинов и М. М. Лапунин, «необходимо выявить параметры, исходя из которых законодатель сможет принять решение, инструментами какой правовой отрасли следует охранять соответствующие объекты»14. В связи с этим охраняемые уголовным законом интересы личности, общества, государства, мира и безопасности человечества приобретают четко определенные параметры исключительно в качестве элементов отношений, образующих предмет регулирования соответствующих отраслей права.
Коренные государственные преобразования 90-х гг. прошлого столетия, затронувшие практически все сферы жизнедеятельности, предопределили новый виток развития отечественной уголовно-правовой науки. На волне позиционируемых демократических ценностей ученые-криминалисты стремились по-новому оценить содержание сложившихся уголовно-правовых учений советского периода времени. Особое внимание уделялось проблеме объекта уголовно-правовой охраны. Критикуя советских ученых за чрезмерную идеологизированность в решении данного вопроса, многие исследователи стали переосмысливать теорию объекта преступления как общественных отношениях. Широкую популярность приобрело изречение А. В. Наумова о том, что в ряде случаев «теория объекта преступления как общественного отношения “не срабатывает”. Особенно это относится к преступлениям про- тив личности, в первую очередь к убийству. Исходя из марксистского понимания сущности человека как “совокупности всех общественных отношений” в науке советского уголовного права принято было считать, что объектом убийства является жизнь человека не как таковая сама по себе, а именно в смысле совокупности общественных отношений… Таким образом, объектом преступления следует признать те блага (интересы), на которые посягает преступное деяние и которые охраняются уголовным законом»15.
В представленных суждениях с учетом приведенной иллюстрации на первый взгляд все выглядит безупречно. Трудно поспорить с тем, что жизнь как естественное состояние и наивысшее благо человека для своей фактической реализации не требует вступления в какие-либо социальные связи. Однако именно в контексте уголовно-правовой охраны жизни ситуация принципиально меняется. Рассматривая в качестве объекта преступления жизнь человека как таковую, приходится столкнуться со сложностями решения ряда юридически значимых вопросы относительно ее конкретных параметров, в частности, начального и конечного моментов. Заявленный подход существенно затрудняет разграничение искусственного прерывания беременности и причинения смерти новорожденному ребенку, правомерного и криминального забора органов и тканей умершего лица для трансплантации в нормотворческой и правоприменительной практике. Получению однозначных ответов на поставленные вопросы могут способствовать исключительно нормативные акты, регулирующие отношения, связанные с рождением и смертью человека. В связи с этим границы феномена «жизнь как объект уголовно-правовой охраны» определяют конкретные юридически оформленные социальные отношения.
Что особенно важно, конкретные правоотношения, складывающиеся относительно обеспечения жизни, способствуют максимально точному определению направленности преступного посягательства. К примеру, если считать объектом неоказания помощи больному, повлекшего по неосторожности его смерть (ч. 2 ст. 124 УК РФ), непосредственно жизнь человека, то складывается весьма противоречивая картина. Создается иллюзия того, что недобросовестный врач имеет намерение посягнуть на жизнь пациента. На самом деле он не выполняет свои профессиональные обязанности по другой причине. В подобных случаях медицинский работник игнорирует права больного лица, отдавая предпочтение личным интересам. Им движет желание высвободить время для решения своих собственных проблем. Поэтому объектом преступления, предусмотренного статьей 124 УК РФ, выступают отношения, обусловленные юридическим статусом пациента и врача.
Изложенная мысль в значительной степени диссонирует с предложением Э. Л. Сидоренко переориентироваться в теории объекта преступления с общественных отношений на частные интересы. Под частным интересом в уголовном праве автором понимается «социальная категория, допустимая правом возможность физических и юридических лиц распоряжаться принадлежащими им благами и на основе метода дозволения участвовать в уголовно-правовой оценке случаев посягательства на эти блага посредством выражения своей воли»16. Соответствующие возможности как проявления диспозитивности в уголовном праве аргументируются ссылками на законодательные и теоретические положения, касающиеся примирения с потерпевшим, уголовного преследования по делам частного обвинения и согласия потер-певшего17. Однако совершенно понятно, что Э.Л. Сидоренко пытается обосновать в качестве примеров уголовно-правовой диспозитивности процедуры реализации потерпевшим своих прав, не имеющих непосредственного отношения к отрасли уголовного законодательства. Речь идет о ситуациях, получающих оценку в рамках уголовно-процессуальных отношений.
Признание объектом уголовно-правовой охраны частных интересов стало не единственным направлением развития анализируемой ветви современной уголовно-правовой теории. Весьма оригинальную позицию относительно объекта преступления представил Г. П. Новоселов. Рассуждая о формальном и материальном компонентах объекта уголовно-правовой охраны, Г. П. Новоселов констатирует: «Можно согласиться с утверждением, что объектом правонарушения является правопорядок, если, разумеется, не рассматривать правопорядок как “второй”, “дополнительный” объект преступления наряду с общественными отношениями. Лишь в рамках единого целого можно анализировать общественное отношение, выделяя его “фактическую” и “правовую” стороны»18. В то же время за этим следует не совсем логичный вывод о том, что «преступление причиняет или создает угрозу причинения вреда не чему-то (благам, нормам права, отношениям и т. п.), а кому-то, и, следовательно, как объект преступления нужно рассматривать не что-то, а кого-то… Объектом любого преступления, а не только направленного против личности, выступают люди, которые в одних случаях выступают в качестве
__________________________________________________ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС отдельных физических лиц, в других – как некоторого рода множество лиц, имеющих или не имеющих статус юридического лица, в третьих – как социум (общество)»19.
Изложенные тезисы можно было бы признать убедительными только в том случае, если бы процесс правового регулирования ориентировался не на «что-то», а на «кого-то». В таком случае не возникало бы никаких сложностей с определением юридических границ охраняемого объекта. Однако человек, отдельные социальные группы, общество, государство и мировое сообщество сами по себе не являются предметами правового регулирования. В качестве таковых выступают отношения, возникающие по поводу реализации интересов личности, общества, государства, мира и безопасности человечества. Подтверждением сказанному служит нормотворческая практика. К примеру, согласно статье 1 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предметом правового регулирования законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации выступают «отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Законодатель взял за правило конкретизировать отношения, которые становятся предметом регулирования соответствующего нормативно-правового акта. Поэтому вне содержания конкретных правоотношений физические лица, их множество, социум в целом лишены формальной оболочки, востребованной уголовным правом для установления границ охраняемых объектов.
Следующий важный вопрос, обсуждаемый в уголовно-правовой литературе, связан с механизмом преступного воздействия на охраняемые уголовным законом отношения. В данном контексте распространена мысль, согласно которой объект уголовно-правовой охраны и объект преступного посягательства содержательно не совпадают. Однако это не совсем так. Употребляя указанные понятия, исследователи в большинстве случаев подразумевают одно и том же явление, рассматриваемое с позиции конкретной уголовно-правовой ситуации. Когда соответствующие отношения не испытывают преступного воздействия, более уместно говорить об объекте уголовноправовой охраны. В случае совершения преступления принято использовать словосочетание «объект преступления».
Между тем непосредственный «удар» от преступления принимает на себя именно предмет воздействия как материально выраженная часть охраняемых законом правоотношений. Здесь стоит признать убедительность Г. П. Новоселова в том, что «не так уж важно, чем именно будет назван предмет преступления – благом, ценностью, предметом общественных отношений (тем, по поводу чего они складываются), суть остается одна: основным свойством предмета является его способность удовлетворять различного рода потребности людей»20. Сказанное полностью объясняет то обстоятельство, что нередко законодатель в содержании уголовного права пользуется формулировками «интересы, охраняемые уголовным законом», «причинение вреда охраняемым интересам» (ст. 12, 37, 39–42, 136, 140 УК РФ и др.). Методологически это не порождает никаких противоречий в соотношении объекта и предмета преступления. Жизнь, здоровье, свобода, собственность и другие интересы человека в юридической действительности приобретают значение не сами по себе, а как объективно выраженные элементы правовых отношений. Сначала регулятивное законодательство создает условия удовлетворения социального интереса и только затем уголовное право обеспечивает возникшие правоотношения надлежащей охраной. Поэтому удовлетворять и сохранять конкретный интерес, выражающий ту или иную потребность людей на уровне отдельной личности, общества или государства, возможно исключительно в рамках юридически оформленных отношений.
С представленной интерпретацией предмета преступления категорически не согласна А. В. Пашковская, по мнению которой «при таком подходе невозможно разграничить отдельные преступления между собой: так, например, и диверсия, и терроризм совершаются против множества лиц, следовательно, разграничить эти преступления можно только по “предмету” (согласно данной трактовке) – тем ценностям, которым причиняется вред. Именно эти ценности и должны признаваться объектом преступления. Смешение же объекта и предмета преступления нивелирует сущность и значение как первого, так и второго»21.
Негодование А. В. Пашковской вполне объяснимо сформировавшимся в науке стереотипом относительно главного предназначения категории объекта преступления в уголовном праве. Согласно традиционным воззрениям, объект криминального посягательства отражает ценность, которая позволяет судить об общественной опасности содеянного. В научной и учебной литературе практически до уровня аксиомы доведены следующие изречения: «Общественная опасность как сущностный признак преступления в значительной мере определяется ценностью общественного отношения, нарушаемого пре- ступлением. Чем более ценно общественное отношение, тем более опасно посягательство на него»22.
Снискав столь широкую популярность, обозначенная идея в то же время не в состоянии освободиться от серьезного внутреннего противоречия. Обратившись к непосредственному содержанию уголовного закона, несложно убедиться в том, что ценностная оценка охраняемых интересов не определяет общественную опасность учиненного деяния. К примеру, если жизнь человека как наивысшее благо полностью обуславливает общественную опасность преступлений, предусмотренных главой 16 УК РФ, то невозможно объяснить их принадлежность к различным категориям. Даже в рамках разновидностей убийства простое и квалифицированные убийства отнесены к разряду особо тяжких преступлений, тогда как убийство матерью новорожденного ребенка и убийство в состоянии аффекта двух или более лиц признаются преступлениями средней тяжести. В свою очередь, убийство в состоянии аффекта одного лица и убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, вообще являются преступлениями небольшой тяжести. Отсюда не совсем понятно, каким образом ценность жизни человека, выступающая ядром объекта воздействия всех без исключения убийств, характеризует их общественную опасность. Согласно части 1 статьи 15 УК РФ преступления подразделяются на категории как раз в зависимости от общественной опасности соответствующего деяния. По аналогичной причине нельзя обосновать более высокую общественную опасность преступлений небольшой и средней тяжести против жизни по сравнению с тяжкими и особо тяжкими преступлениями против иных охраняемых интересов.
Отталкиваясь от формулы «чем более ценно общественное отношение, тем более опасно посягательство на него», возникает еще одна проблема, связанная с объяснением общественной опасности деяний, учинение которых грозит самыми строгими наказаниями. По логике представленного тезиса, они обладают наивысшей общественной опасностью только потому, что оказывают разрушительное воздействие на наивысшую ценность. Однако объектом преступлений, за совершение которых может быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, являются не только отношения, непосредственно связанные с жизнью человека как официально признанной наивысшей ценностью. К примеру, пожизненное лишение свободы грозит за
А. М. Герасимов ___________________________________________________________________ изнасилование, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК РФ). Объектом данного преступления выступают отношения по обеспечению половой неприкосновенности человека. Остается загадкой, каким образом не самая высокая ценность объекта обозначенного преступного посягательства обуславливает его наивысшую общественную опасность, служащую основанием для применения наказания в виде пожизненного лишения свободы.
Вполне очевидно, что общественная опасность преступления определяется не столько ценностью объекта посягательства, сколько объемом причиняемого такому объекту вреда. Суммарный вред от преступления складывается из всех объективных и субъективных признаков деяния, находящегося под угрозой уголовного наказания. Решение задачи по определению характера и степени общественной опасности конкретного поступка требует констатации в содеянном признаков состава преступления, выявления существенных обстоятельств произошедшего и характеристики личности виновного лица. При этом вполне допустимы уголовно-правовые сценарии, когда разрушительное воздействие на интересы личности, общества или государства вообще не квалифицируется как общественно опасное. Подтверждением сказанному могут послужить случаи причинения вреда соответствующим интересам при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Скажем, защита жизни обороняющегося посредством причинения смерти посягающему лицу по смыслу статьи 37 УК РФ является допустимой и на уровне уголовноправовой теории характеризуется как социально полезная. Оценка правомерности и общественной значимости необходимой обороны никак не связывается с ценностью жизни лица, пренебрегшего своей обязанностью по воздержанию от совершения преступления. Совершая посягательство на жизнь другого человека, криминально мотивированное лицо в конкретной ситуации условно выводит собственную жизнь за юридические границы охраняемых отношений.
Еще одним несостоятельным стереотипом следует признать тезис о том, что законодатель подтверждает ту или иную ценность охраняемого объекта в ходе систематизации Особенной части уголовного права. Перед уголовным законодательством не стоит задача по ранжированию охраняемых интересов в зависимости от их социальной ценности. Она уже решена всенародным голосованием, итогом которого стало принятие Конституции РФ. Основной закон страны провозглашает высшей ценностью человека и его интересы. На конституционном уровне гарантируется, что права и свободы личности определяют смысл, содержание и применение законов. Признание,
__________________________________________________ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина признается обязанностью государства. Таким образом, приоритет интересов человека над интересами общества и государства имеет конституционное значение и не требует какого-либо одобрения другими отраслями отечественного законодательства.
Основываясь на заданных Конституцией РФ ценностных ориентирах, регулятивное право формирует параметры удовлетворения соответствующих интересов, часть из которых берется под охрану отраслью уголовного законодательства. По существу, иерархия охраняемых интересов в уголовном праве принимается как данность и играет формальную роль при систематизации его Особенной части. Каждая группа преступлений законодателем выделена исходя из направленности соответствующих деяний на тот или иной интерес личности, общества, государства, мира и безопасности человечества. При этом непосредственное значение аксиологической градации охраняемых интересов в структурировании преступных деяний можно усмотреть только на уровне отдельных разделов и глав Особенной части уголовного закона. Анализируя местоположение ее отдельных статей, ситуация с иерархичностью объектов преступных посягательств выглядит не столь однозначно. В некоторых случаях законодатель пытался объединить преступления со схожим объектом по принципу нисходящей общественной опасности соответствующих деяний. К примеру, преступления против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ), преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (гл. 18 УК РФ). Однако при построении других групп преступлений обозначенный принцип законодателем не обеспечивается. Ярким примером тому служат преступления против собственности (гл. 21 УК РФ), преступления против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25 УК РФ).
Все изложенное доказывает несостоятельность концепция, согласно которой фактическая ценность интересов личности, общества, государства, мира и безопасности человечества определяет общественную опасность совершаемых в отношении них преступных посягательств. Дифференциация охраняемых интересов в зависимости от их ценности имеет исключительно номинальное значение при определении направленности преступного посягательства, закладываемой в основу структурирования Особенной части уголовного закона. В категории объекта преступления главными являются не ценностные характеристики предмета посягательства, а юридические параметры возникающих по его поводу общественных отношений.
Резюмируя все изложенное относительно сущности и параметров объекта уголовно-правовой охраны, сформулируем ряд выводов.
-
1. Объект уголовно-правовой охраны (объект преступления) – это правоотношение, возникающее по поводу удовлетворения фактических интересов личности, общества, государства, мира и безопасности человечества, которое претерпевает общественно опасное воздействие. Юридические параметры охраняемого уголовным законом отношения устанавливаются регулятивной отраслью права. Непосредственно уголовному законодательству по своей природе не свойственно регулировать нуждающиеся в охране отношения.
-
2. Предметом преступления выступает конкретный интерес личности, общества, государства, мира и безопасности человечества как материально выраженное ядро охраняемого уголовным законом правоотношения, которое испытывает непосредственное воздействие со стороны запрещенного уголовным законом деяния. Социальная ценность охраняемого интереса имеет значение для построения Особенной части уголовного законодательства, однако общественную опасность включающихся в ее структуру преступлений не определяет.
Список литературы Объект уголовно-правовой охраны и его параметры
- Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник Русского Уголовного права. Общая и особенная части. Киев - Петербург - Харьков: Южно-Русское Книгоиздательство, 1903.
- Блинов А. Г., Лапунин М. М. Пределы вмешательства уголовного права в сферу исследования генома человека // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. Вып. 50.
- Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений). Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1979.
- Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М.: Зерцало, 1999. Т. 1. Учение о преступлении.
- Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. М.: Изд-во БЕК, 2000.
- Никифоров Б. С. Объект преступления по Советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1960.
- Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль, 2010. Т. 3.
- Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М.: НОРМА, 2001.
- Пионтковский А. А. Курс советского уголовного права: в 6 т. Часть Общая. М.: Наука, 1970. Т. 2.
- Пионтковский А. А. Уголовное право РСФСР. Часть общая. М.: Гос. изд-во, 1924.
- Прохоров В. С. Преступление и ответственность. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1984.
- Сидоренко Э. Л., Карабут М. А. Частные начала в уголовном праве. СПб.: Юридический центр Пресс, 2007.
- Спасович В. Д. Учебник уголовного права. СПб.: Тип. И. Огризко, 1863. Т. 1.
- Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. СПб.: Гос. Тип., 1902. Т. 1.
- Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Плотников. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016.