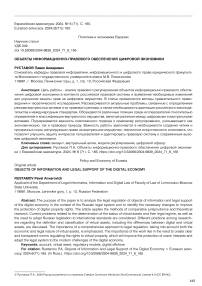Объекты информационно-правового обеспечения цифровой экономики
Автор: Рустамов П.А.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Политика и экономика Евразии
Статья в выпуске: 6 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель работы - анализ правового регулирования объектов информационно-правового обеспечения цифровой экономики в контексте российской правовой системы и выявление необходимых изменений для улучшения защиты прав на цифровое имущество. В статье применяются методы сравнительного правоведения и теоретического исследования. Рассматриваются актуальные проблемы, связанные с определением режима виртуальных активов и их правового режима, а также необходимость адаптации российского законодательства к международным стандартам. Обсуждаются различные позиции среди исследователей относительно определения и классификации виртуального имущества, включая различия между цифровыми и виртуальными активами. Подчеркивается важность комплексного подхода к правовому регулированию, учитывающего как экономическую, так и правовую природу. Важность работы заключается в необходимости создания четких и прозрачных норм, регулирующих права на виртуальное имущество, технологии искусственного интеллекта, что позволит улучшить защиту интересов пользователей и адаптировать правовую систему к современным вызовам цифровой экономики.
Аккаунт, виртуальный актив, модели регулирования, цифровой офшор
Короткий адрес: https://sciup.org/140308751
IDR: 140308751 | УДК: 349 | DOI: 10.52068/2304-9839_2024_71_6_165
Текст научной статьи Объекты информационно-правового обеспечения цифровой экономики
С развитием цифровых технологий и виртуальных миров возникли новые вызовы для правовой системы, касающиеся защиты прав на объекты, существующие исключительно в цифровом формате. Признание виртуальных объектов интеллектуальной собственностью является актуальным, однако этот подход сталкивается с рядом трудностей. В частности, проблема заключается в том, что многие виртуальные объекты не имеют материального воплощения, что затрудняет применение традиционных норм и правил, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Также важно учитывать, что виртуальное имущество управляется администратором информационной системы, что создает дополнительные сложности в определении прав на эти объекты. Необходимость разработки новых правовых механизмов для регулирования цифровых активов и их оборота становится все более актуальной.
В.А. Вайпан пишет о том, что основная цель нормативного регулирования в рамках цифровой экономики заключается в создании новой регуляторной среды, способствующей развитию современных технологий и экономической деятельности в цифровой экономике. Это потребует системных изменений в ключевых законодательных актах, таких как Гражданский, Арбитражный, Гражданский процессуальный и Трудовой кодексы. Соответственно, предполагается решить следующие задачи:
-
1. Создать механизм управления изменениями в правовом регулировании цифровой экономики с текущим контролем за нормативной базой.
-
2. Устранить правовые ограничения и ввести новые институты для поддержки цифровой экономики.
-
3. Обеспечить комплексное законодательное регулирование, унифицировав понятия и принципы в базовых актах.
-
4. Стимулировать экономическую деятельность, связанную с современными технологиями и данными.
-
5. Разработать политику развития цифровой экономики в рамках Евразийского экономического союза и гармонизировать подходы к регулированию.
-
6. Создать методическую основу для повышения компетенций в области регулирования цифровой экономики через обучение и переподготовку специалистов [3].
Формирование цифровой среды доверия требует существенных изменений законодательства в сфере идентификации.
Объектом гражданских прав в отечественном законодательстве являются вещи, а не вещные права (римское правило: «право следует за вещью»), поэтому фраза «и иные права» в понятии цифровых прав не должна вводить в заблуждение. На данный момент по этому вопросу в доктрине нет однозначной позиции, к тому же не сложилась соответствующая судебная практика [11]. Л.Ю. Василевская отмечает, что законодатель специально избрал для цифровизации исключительно имущественные права, обойдя вещи: «любую индивидуально-определенную вещь можно «перевести в цифру», но цифровой код вещи не сможет передать ее уникальные характеристики, особенности, определяющие ее ценность и, соответственно, стоимость» [4]. Данные аргументы поддерживают многие авторы, придерживающиеся позиции невозможности применения вещно-правового режима в отношении цифрового имущества в российском гражданском праве. Статья 128 ГК РФ определяет перечень объектов гражданских правоотношений, действующая редакция позволяет охватить виртуальные объекты без внесения в неё изменений [1].
В современной юридической науке и практике нет единства в выборе классификации общественных отношений, возникающих по поводу виртуальных объектов.
Критика термина «цифровые права» в Гражданском кодексе Российской Федерации вызывает значительные споры среди исследователей. Данный термин является неудачным, так как не отражает сущности правовых отношений и фактически заменяет более точный технический термин «токен». Данная правовая позиция подчеркивает необходимость углубленного понимания природы цифровых объектов и их правового режима. В то же время существует подход, который рассматривает цифровые права как уникальную категорию объектов, однако действующая формулировка в российском законодательстве ограничивает подобную трактовку. В связи с этим возникает потребность в установлении базовых принципов регулирования виртуальных объектов, таких как аккаунты в социальных сетях и виртуальные игровые предметы.
В контексте объектов информационно-правового обеспечения цифровой экономики часто рассматриваются вопросы отнесения средств индивидуализации цифровых устройств к категории имущества. Под средствами индивидуализации цифровых устройств подразумеваются как программные, так и аппаратные элементы, которые позволяют идентифицировать устройство.
Вопрос отнесения средств индивидуализации цифровых устройств к категории имущества является актуальным и многогранным, что обусловлено существованием различных точек зрения на этот счет. Сторонники признания средств индивидуализации как имущества утверждают, что такие элементы, как логотипы, программы и уникальные идентификаторы, представляют собой активы, обладающие экономической ценностью. Соответственно, эти средства индивидуализации в цифровой среде могут быть использованы для создания бренда, защиты интеллектуальной собственности и повышения конкурентоспособности, что позволяет рассматривать их как часть общего имущества компании или физического лица. Данной позиции, в частности, придерживается Е.Е. Кирсанова, определяя аккаунт как учетную запись, содержащую идентифицирующую и контактную информацию, а также дополнительные данные, которые могут варьироваться в зависимости от свойств системы и целей обработки данных. Е.Е. Кирсанова акцентирует внимание на том, что аккаунт является неотъемлемой частью цифровой личности пользователя, что подчеркивает его значимость в контексте цифровой экономики, указывая на необходимость правового регулирования, чтобы гарантировать, что использование и распоряжение аккаунтами не нарушает личные права граждан и не затрагивает интересы третьих лиц [8]. Исследование соотношения правовых режимов объектов интеллектуальной собственности, таких как фотографии, уже проводилось. М.В. Телюкина выделяет в качестве примера два процесса цифровизации: оцифровку существующих фотографий и цифровую фотосъемку, анализируя, могут ли современные фотографии считаться самостоятельными объектами права, и приводя аргументы в пользу положительного ответа на данные вопросы [9].
С другой стороны, противники этой позиции указывают на то, что средства индивидуализации являются скорее инструментами, нежели самостоятельными объектами имущества, поскольку они могут не иметь самостоятельной ценности вне контекста использования в конкретном устройстве или продукте. Более того, правовая природа таких средств может быть более связана с авторским правом или патентами, чем с имущественными правами, что также требует внимания.
Можно говорить о компромиссном подходе, в соответствии с которым средства индивидуализации могут рассматриваться как имущество в определенных контекстах, например в рамках бизнеса, но необязательно в других обстоятель- ствах. Это может зависеть от того, как именно они используются, и какие права на них существуют.
Рассматривая средства индивидуализации цифровых устройств как имущество, особенно в контексте их использования в бизнесе и маркетинге, представляется важным подчеркнуть то, что, например, аккаунты в социальных сетях обладают экономической ценностью и могут быть объектом правовых отношений. Однако необходимо также учитывать, что их правовая природа может быть сложной и требует дополнительных исследований.
Сравнение с зарубежными правовыми системами показывает, что понятие цифровых прав там более широкое и охватывает различные виды цифрового имущества, включая электронные средства платежа и цифровые фотографии. Данное обстоятельство подчеркивает необходимость пересмотра российского подхода в целях его соответствия международным стандартам. Вопрос о применении правового режима имущества к виртуальным объектам требует комплексного изучения, так как, например, необходимость определения того, является ли «реализация дополнительного игрового функционала» предоставлением услуг, может оказать влияние на налогообложение и правовые последствия.
Сторонники подхода к виртуальному имуществу утверждают, что нематериальные объекты обладают реальной коммерческой ценностью и могут рассматриваться как собственность. Подобное мнение создает основу для дальнейшего правового регулирования и защиты имущественных интересов пользователей. Однако критики данного подхода указывают на нематериальный характер виртуальных объектов, что в свою очередь вызывает вопросы о применимости традиционных правовых концепций собственности к цифровой среде. Кроме того, подход, при котором игнорируется режим виртуального имущества и применяются правила лицензионных соглашений, может ограничивать защиту интересов пользователей, поднимая тем самым вопрос о необходимости создания более эффективных механизмов защиты прав пользователей. В свете тенденции к дематериализации имущественных объектов предполагается, что это может изменить традиционное понимание собственности, что вызывает споры и требует дальнейшего обсуждения в научной и правовой среде.
Таким образом, в российском законодательстве термин «имущество» используется в разных значениях, это позволяет отнести виртуальные объекты к «иному имуществу», защищать права их владельцев с помощью норм о договорах, деликтах и несостоятельном обогащении [10]. Существующие мнения подчеркивают необходимость комплексного подхода к правовому регулированию виртуальных объектов, который учитывал бы как экономическую, так и правовую природу этих объектов, а также их взаимодействие с традиционными концепциями собственности и интеллектуальной собственности.
Законодательство в данной сфере все еще развивается, и многие вопросы решаются постепенно по мере проведения реформирования нормативных правовых актов. Так, Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в редакции от 08.08.2024 установил, что «для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом» [2].
В целом, определения различных видов виртуального имущества не обладают четкостью и прозрачностью формулировок, требуемых в рамках абсолютных правоотношений. Представляется необходимым приравнять виртуальные объекты к виртуальным активам, а также законодательно разделить понятия «цифровой актив» (криптовалюта) и «виртуальный актив» (предметы онлайн-игр, стикеры и др.) [10], установить понятие виртуального игрового имущества как объекта гражданских прав. Кроме того, как указывает В.А. Вайпан, особое внимание следует уделить правовому режиму цифровых объектов, включая 3D-модели, и расширению патентного права на нематериальные объекты; необходимо определить статус операторов интернет-телевидения и улучшить доступ к широкополосному интернету, а в сфере авторского права следует учитывать различия в правовой квалификации объектов и их экономических целей [3].
Помимо категории «виртуального имущества», можно выделить в системе объектов информационно-правового обеспечения цифровой экономики технологию искусственного интеллекта, а также технологию машинного обучения. В данной плоскости существуют споры о признании технологии искусственного интеллекта как субъекта правоотношений. Эта позиция позволит ограничить зону ответственности для разработчика, собственника технологии. Проблемы в данной сфере можно поделить на две части: определение правового режима технологии и предупреждение последствий. Отчасти решить проблему можно через распространение юридической фикции и наделение программы правосубъектностью (учитывая способность программ самообучаться, порой без ведома и желания ав- тора), наравне с юридическим лицом. Если мы обсуждаем модели ответственности, то их можно строить через:
-
– страхование рисков первоначальным собственником;
-
– применение модели раба;
-
– установление перечня лиц, ответственных за работу.
На основе представленного текста можно выделить несколько рекомендаций, направленных на совершенствование нормативного правового регулирования объектов информационно-правового обеспечения цифровой экономики, особенно в контексте защиты прав на виртуальные объекты. Прежде всего, внедрение концепции «numerus clausus» является важным шагом, так как применение этой идеи к правам на виртуальные объекты позволит суду рассматривать такие права не только как лицензионные, но и как ценные активы, что, в свою очередь, улучшит правоприменительную практику. Кроме того, адаптация концепции «in rem», которая включает двухэтапный подход к правам на виртуальные активы, подразумевает идентификацию конкретных активов и определение их владельцев, что поможет прояснить правовое регулирование в данной сфере.
Не менее значимой является инициатива по разработке федерального закона о цифровой экономике, который должен включать основные правовые понятия, а также принципы цифрового оборота и особенности правового режима регулирования. Согласимся с А.А. Карцхией, что создание единого цифрового публичного он-лайн-реестра для регистрации цифровых прав на виртуальные объекты и их правообладателей обеспечит прозрачность и доступность информации о правах и сделках, что повысит уровень защиты прав [5].
Дополнительно необходимо организовать программы обучения для судей и правозащитников, направленные на ознакомление с новыми подходами и концепциями в области защиты прав на виртуальные активы. Это обеспечит единообразие в правоприменительной практике. Наконец, сотрудничество с международными организациями и правозащитными структурами для обмена опытом и лучшими практиками в области правового регулирования виртуального имущества также может оказаться весьма полезным.
Таким образом, указанные рекомендации могут способствовать совершенствованию информационно-правового обеспечения исследуемой области в России.
Список литературы Объекты информационно-правового обеспечения цифровой экономики
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
- Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL: https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/#dst735.
- Вайпан В.А. Основы правового регулирования цифровой экономики // Право и экономика. 2017. № 11 (357). С. 5-18.
- Василевская Л.Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права // Хозяйство и право. 2019. № 5. С. 111.
- Карцхия А.А. Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий: дис.... д-ра юрид. наук. М., 2019.
- Кирсанова Е.Е. Информация как объект гражданских прав // Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений: сборник научных статей по итогам работы четвертого круглого стола со Всероссийским и международным участием / Донской государственный технический университет. Шахты, 2020. С. 51-54.
- Кирсанова Е.Е. Обзор основных теорий определения правового режима объектов, созданных искусственным интеллектом // Закон. 2023. № 9. С. 36-46.
- Кирсанова Е.Е. Правовое регулирование оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой экономике: дис.... канд. юрид. наук. М., 2021.
- Телюкина М.В. Проблемы определения места фотографии в системе объектов гражданских правоотношений // Хозяйство и право. 2018. № 8. С. 21-36.
- Игошкина М.Е. Виртуальные объекты гражданских прав // Государство и право: материалы 58-й Международной научной студенческой конференции. Новосибирск, 2020. С. 110-111.
- Абазалиев А.Х., Василевская Л.Ю. О допустимости применения вещно-правового режима в отношении цифровых прав // Современные проблемы правотворчества и правоприменения: материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции в рамках Байкальского студенческого юридического форума-2020. Т. 2 / отв. ред.: Э.И. Девицкий, С.И. Суслова. Иркутск, 2020. C. 50-55.