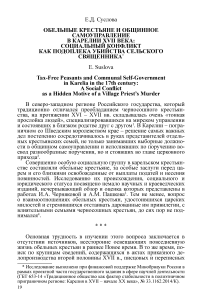Обельные крестьяне и общинное самоуправление в Карелии XVII века: социальный конфликт как подоплека убийства сельского священника
Автор: Суслова Евгения Дмитриевна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 50, 2016 года.
Бесплатный доступ
В марте 1681 г., в Олонецком уезде (Карелия), черносошный крестьянин Никита Трифонов предъявил обельному крестьянину Прохору Мартемьянову обвинение в убийстве своего двоюродного брата - приходского священника Пахома Иванова. Следственные документы по этому делу не обнаружены. Известно лишь, что обвиняемый сумел доказать свою невиновность. Реконструкция событий, предшествующих убийству, проведена на основе сохранившихся архивных и опубликованных документов. Она приводит к выводу, что подоплекой убийства стал серьезный социальный конфликт между двумя влиятельными крестьянскими семьями, которых поддерживали жители окрестных деревень, разделявшие взгляды той или другой семьи. Почвой для столкновения послужила разница в экономическом и социальном положении двух крестьянских родов, а также соперничество их представителей в общинном и церковном самоуправлении. В междусемейном конфликте отразились сложные взаимоотношения между обельными и черносошными крестьянами в Карелии XVII в. Обельные крестьяне всемерно стремились сохранить и укрепить преимущества своего экономического и социального положения. Черносошные крестьяне, со своей стороны, использовали свое превосходство в общинном и церковном самоуправлении, чтобы ограничить старинные привилегии обельных крестьян.
Карелия, олонецкий уезд, приказ новгородской четверти, воевода, крестьянство, обельный крестьянин, черносошный крестьянин, крестьянская община, общинное самоуправление, русская православная церковь, сельский священник, церковный приход, социальный конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/14913793
IDR: 14913793
Текст научной статьи Обельные крестьяне и общинное самоуправление в Карелии XVII века: социальный конфликт как подоплека убийства сельского священника
E. Suslova
Tax-Free Peasants and Communal Self-Government in Karelia in the 17th century: A Social Conflict as a Hidden Motive of a Village Priest’s Murder
В северо-западном регионе Российского государства, который традиционно отличался преобладанием черносошного крестьянства, на протяжении XVI – XVII вв. складывалась очень «тонкая прослойка людей», специализировавшихся на мирском управлении и состоявших в близком родстве друг с другом1. В Карелии – пограничном со Шведским королевством крае – решение самых важных дел постепенно сосредотачивалось в руках представителей отдельных крестьянских семей, не только занимавших выборные должности в общинном самоуправлении и исполнявших по поручению воевод разнообразные поручения, но и стоявших во главе церковного прихода2.
Совершенно особую социальную группу в карельском крестьянстве составляли обельные крестьяне, за особые заслуги перед царем и его близкими освобожденные от выплаты податей и несения повинностей. Исследованию их происхождения, социального и юридического статуса посвящено немало научных и краеведческих изданий, исчерпывающий обзор и оценка которых представлены в работах И.А. Черняковой и А.М. Пашкова3. Тем не менее, вопрос о взаимоотношениях обельных крестьян, удостоившихся царских милостей и стремившихся отстаивать дарованные им привилегии, с влиятельными семьями черносошных крестьян, до сих пор не под-нимался4.
* * *
Основная трудность в изучении этого вопроса заключается в отсутствии источников, всесторонне освещающих повседневную жизнь обельных крестьян в раннее Новое время. В то же время, поиск по крупицам сведений, содержащихся в актах приказного делопроизводства второй половины XVII в., писцовых и переписных книгах середины XVI – начала XVIII вв., открывает возможности для реконструкции социальных связей обельных крестьян.
В частности, в фонде Олонецкой воеводской избы Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН, документы которого готовятся к опубликованию в Интернете Исследовательской лабораторией локальной и микроистории Карелии, действующей на базе Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, выявлена сильно обветшавшая по краям челобитная, написанная беглой скорописью второй половины XVII в. Судя по помете, она поступила на рассмотрение олонецкого стольника и воеводы Ивана Денисовича Лукина не позднее 13 марта 1681 г. Ее автор – житель Ялгубской волости Никольского Шуйского погоста Никита Трифонов – предъявил обельному крестьянину Прохору Мартемьянову обвинение в убийстве своего двоюродного брата – приходского священника Пахома Иванова. Хотя челобитчик не являлся свидетелем случившегося, он был твердо уверен в том, что именно Прохор Мартемьянов в 1680 г. «посли празника Успения Пресвятей Богородицы на другой день… зарезал» священника «неведомо за што»5.
Приведенные в челобитной обстоятельства дела наталкивают на мысль о том, что житейская ситуация возникла вследствие каких-то серьезных разногласий между обельными крестьянами и семьей челобитчика. Хотя в фонде не обнаружены документы о розыске, попытка объяснить события, разыгравшиеся в Ялгубе в 1680 г., послужила отправной точкой для исследования взаимоотношений представителей двух семей в длительной хронологической перспективе на основе восстановления их родственных и социальных связей, участия в решении повседневных дел волости.
Для понимания истоков конфликта первостепенную значимость имеет вопрос о социальном происхождении истца Никиты Трифонова, убитого священника Пахома Иванова и ответчика Прохора Мартемьянова.
Сопоставительный анализ сведений писцовых и переписных книг о мужском составе дворов, стоявших в Ялгубской волости, позволяет заключить, что сельский клирик и его двоюродный брат Никита Трифонов являлись выходцами из старинного крестьянского рода, корни которого восходят к середине XVI в. Их прапрадедом был Кондратко Окулов, чей двор, как и дворы родственников последнего – брата Онашки, Ондрея и Пимина Окуловых – зафиксированы писцом А. Лихачевым в начале 1560-х гг. в деревне «на Ялше-озери словет в Ялгобе»6. Спустя менее 20-ти лет – в начале 1580-х гг. – писец А. Плещеев, уточнив название деревни и добавив к нему указание на имя первого дворохозяина, упомянутого в предшествующем описании – «на Солше озере Вьялгочная в Гожозере Ондрейка Окулова», – отметил здесь два двора: Пимина Окулова и Осипа Кондратова – сына Кондрата Окулова7.
В свою очередь, основателем рода обельных крестьян Ялгубы был Григорий Меркульев – дед Прохора Мартемьянова8. Вместе «с детьми и племянники», согласно указанию А.И. Иванова, в начале XVII в. Григорий Меркульев проживал в деревне «Андреевской 20
(Окуловская тож)», – той самой, в которой числились по писцовым книгам крестьяне Окуловы9.
Приписывая Григорию Меркульеву и его племяннику Кузьме Федорову составление врачевательной книги, обнаруженной преподавателем Петрозаводской духовной семинарии Львом Малиновским в одной из деревень Заонежского полуострова во второй половине XIX в. и частично записанной на исчезнувшем языке, представлявшем собой смешанное образование разных диалектных групп местных людиковских говоров, петрозаводский филолог А.П. Баранцев полагал, что потомки рода Меркульевых являлись «уроженцами ялгубских деревень Андриевская и Ананьинская»10. Отсутствие сведений о Григории Меркульеве и его отце Маркушке «в ранних писцовых книгах» А. Лихачева (1563 г.) и А. Плещеева (1582/83 г.) ученый объяснял тем, что они в то время не являлись «дворохозя-евами и главами семей»11. Этноним «лоплянин», под которым Григорий Меркульев упомянут в обельных грамотах 1601 и 1686 гг., по мнению автора, свидетельствует только о том, что среди его предков могли быть лопари (саамы), в то время как население Ялгубы в начале XVII в. являлось прибалтийско-финским по происхождению12.
Первые документально зафиксированные в массовых источниках сведения об основателях рода обельных крестьян Ялгубы, как установила И.А. Чернякова, относятся только к концу 1610-х гг. Дворы Гриши Меркульева, его брата и племянника, уточнила исследовательница, были упомянуты писцом П. Воейковым и подьячим И. Льговским в деревне «на Солшеозере Волгоячь на Ялгожозере Ондрейка Окулова» (будущей Окуловской)13. В писцовой книге присутствует ремарка о том, что участки, которые обрабатывали обельные крестьяне, вспахивались и в 1585 г., о чем писцу и дьяку было известно из предшествующего описания Л. Аксакова. Это свидетельство позволило И.А. Черняковой заключить, что Гриша Мерку-льев и его родственники «уже и в начале 1580-х годов проживали» здесь14.
Обращение к писцовым книгам 1563 и 1582/83 гг. ставит под сомнение тезис А.П. Баранцева о том, что Гриша Меркульев с отцом происходили из среды местных крестьян. В начале 1560-х гг. в деревне «на Ялше-озери словет в Ялгобе», помимо четырех дворов крестьян Окуловых, стоял только двор некоего Фофанки Гаврило-ва15. При этом в начале 1580-х гг. дворохозяевами являлись исключительно потомки Окуловых16.
Сведений о возможных родственниках обельных крестьян не выявлено и среди мужского состава дворов соседней деревни «на Ялокше острову Минки Ананьина» (согласно обельной грамоте – «Ананьинская, а Минино тож»)17. Именно в этой деревне, согласно указаниям писца П. Воейкова и дьяка И. Льговского со ссылкой на жалованную грамоту царя Василия Ивановича, полученную Гришей Меркульевым в 1608 г., но не сохранившуюся до наших дней, должны были проживать «ево Гришины… два племянника»18. Однако судить о родстве обельного с дворохозяевами – Меншиком Мининым и вдовой Пелагеицей Гавриловой, – сыном и невесткой основателя деревни Минки Онаньина, а также Федкой Конановым, писцовая ко- 21
миссия не посчитала правомерным на основании того, что «имяна племянником» Гриши Меркульева «в грамоте не написаны» были19.
В свете вышеизложенного уверенно полагаем, что прозвище «ло-пянин», упомянутое не только в обельных грамотах, но и в писцовой книге 1616 – 1619 гг., указывает не столько на этническую принадлежность Гриши Меркульева, сколько на проживание его семьи в недавнем прошлом в Лопских погостах20. Меркульевы перебрались в Ялгубу, по всей видимости, в середине 1580-х – 1590-х гг., когда на заключительном этапе Ливонской войны и вплоть до подписания Тявзинского мирного договора 1595 г. северная Карелия не раз подвергалась разорению шведскими отрядами и жителями Восточной Финляндии («каянских немцев»)21. Спасаясь от войны и грабежей, Гриша Меркульев с родственниками, люди пришлые, были приняты местным социумом, о чем свидетельствует факт поселения их на земле крестьян Окуловых22.
Будучи пришлыми, они вскоре стали претендовать на авторитет и влияние в волости. Способствовало этому счастливое стечение обстоятельств: им удалось оказать важную услугу самому царю – Борису Годунову. Получив жалованную грамоту в 1601 г., подтвержденную в 1608 г., Меркульевы оказались в привилегированном по сравнению с остальными крестьянами положении. За какие именно услуги в 1601 г. царем Борисом Годуновым им была дарована грамота – неизвестно. Как отметил А.М. Пашков, «создание канонического дискурса» о причинах пожалования завершил краевед А.И. Иванов, который опирался на устное предание, зафиксированное в 1785 г. проезжавшим мимо села Ялгубы академиком Н.Я. Озерецков-ским и воспроизведенное в 1842 г. в описании Олонецкой губернии этнографом В.А. Дашковым23. Согласно этому преданию, бережно хранимому ялгубскими обельными крестьянами, «два предка их излечили» Бориса Годунова «от ран на ногах, зализав их языком»24. Так или иначе, не сама по себе услуга, но обращение согласно установленному порядку с соответствующей челобитной к центральной власти обеспечило получение грамоты, в которой были письменно зафиксированы привилегии Меркульевых.
Согласно этой грамоте, Грише Меркульеву с родственниками велено было «своею обжею» земли, которую они пахали в Ялгубе, «владети безданно и… никаких податей с нее не имати»25. Воспользовавшись ситуацией страшной разрухи, которую вызвали в крае события начала XVII в., подобно крестьянам других Заонежских погостов, получивших в 1614 г. обельные грамоты – Еремею Глездунову и Поздею Тарутину – Меркульевы незаконно расширили свои владения за счет земель черносошных крестьян26.
Как установила И.А. Чернякова, к концу 1610-х гг. за Гришей Меркульевым числился не только участок в 10 четвертей земли в деревне «на Солшеозере Волгоячь на Ялгожозере Ондрейки Окулова», но еще две деревни, «в одной из которых жили племянники Григория, а обитатели другой платили ему подати»27. Обращение к тексту источника позволяет заключить, что на одну из деревень – «туто ж на Ялокши на острову Минки Онаньина» – обельные крестьяне не претендовали28. Упоминание о ней в описании их земельных уго- дий фигурирует в писцовой книге только с целью разъяснения, что именно этой деревней, согласно грамоте царя Василия Ивановича, а не деревней «на Ялокши на Острову Конанка Минина» должны были владеть Меркульевы29.
Сравнение данных о количестве дворов и размерах земли в указанных деревнях во многом объясняет, почему Гриша Меркульев предпочел владеть деревней «на Ялокши на Острову Конанка Минина». В ней, как следует из писцового описания, стояли дворы трех крестьян, участок земли составлял 10,7 четвертей в одном поле, с пожен ежегодно скашивалось по 45 копен сена30. В то же время, в соседней деревне Минки Онаньина, в которой, согласно утверждению писца П. Воейкова со ссылкой на грамоту царя Василия Шуйского, должны были проживать два племянника Григория Меркульева, числился только Кирилл Микифоров с семьей; земельный ее фонд составлял всего 4,6 четвертей в одном поле, с угодий снималось по шесть копен сена31.
Сходство в названии деревень позволило семье обельных крестьян претендовать на более многолюдную деревню с приписанным к ней обширным участком земли. Пытаясь в последующие годы сохранить за собой право на владение ею, в сказке дозорщику М. Лыкову, описывавшему край в 1620 г., они выдали деревню «на Ялокши на Острову Конанка Минина» за деревню «Онаньинскую, а Минино тож»32.
Таким образом, искусно отстаивая свои интересы перед лицом властей, семья Меркульевых к концу 1610-х гг. добилась значимого положения. Ей принадлежали земельные угодья размером в 24,7 четвертей в одном поле (при этом часть их все еще не обрабатывалась), и пожни, урожай с которых составлял 53,5 копен сена33. Меркульевы не только перестали вносить подати в государеву казну, но и получали в свою пользу выплаты с крестьян деревни Конанки Минина. Безоброчное владение землей и угодьями должно было обеспечить им более высокий по сравнению с другими крестьянами уровень благосостояния.
Пожалование Григорию Меркульеву участка земли в деревне Окуловской на первых порах вряд ли вызывало недовольство среди соседей. Несмотря на то, что количество тяглых дворов по сравнению с началом 1580-х гг. увеличилось – с двух до пяти, – их жители к концу 1610-х гг. обрабатывали менее половины участка, находившегося в их пользовании34. Писец П. Воейков отметил, что только 7 из 15,1 четвертей тяглой земли в одном поле (46 %) распахивались, а остальное было обозначено как то, что «перелогом и лесом поросло… и с отхожею пашнею»35.
Добиться признания авторитета определенной группы крестьян, можно думать, Меркульевым позволили практические знания в области народной медицины. На мысль об этом, с одной стороны, наводит все еще не забытая потомками ко второй половине XVIII в. легенда об излечении их предками царя. Сложно судить о правдоподобности выдвинутой А.П. Баранцевым гипотезы о том, что именно Гриша Меркульев и его племянник Кузьма Федоров являлись составителями сборника из 125-ти заговоров. Однако им установлен факт 23
записи части текстов на языке, в основе которого лежало людиков-ское наречие начала XVII в. По мнению ученого, эти тексты свидетельствуют о том, что жители центральных деревень волости, расположенных «в низовье реки Шуи и вокруг Логмозера – Ялгубы», были знатоками народных способов лечения36. Возможно, Мерку-льевы пользовались авторитетом среди именно этой группы ялгуб-ских крестьян.
В последующие годы – в конце 1610-х – начале 1630-х гг. – светские и церковные власти, осознав чрезмерную влиятельность рода Меркульевых в округе, предприняли меры, умерившие их чрезмерные притязания и себялюбие. Как отметила И.А. Чернякова, уже в 1616 – 1619 гг. писец П. Воейков и дьяк И. Льговский посчитали владение Гришей Меркульевым и его родственниками деревней «на Ялокши на острову Конанка Минина» незаконным и «обратились в Москву за указаниями»37. Центральная власть, ради увеличения налогообложения, к началу 1630-х гг. включила эту деревню в перечень тяглых, как и деревню Минки Онаньина, которой Гриша Мер-кульев изначально не захотел владеть38. Размер оставленного за семьей обельных крестьян Ялгубы земельного участка был уменьшен в 1,7 раза, угодий – в 6 раз. За ними продолжала числиться только часть деревни Окуловской: размер «пашни… паханые и перелогу середние земли» составлял 14 четвертей в одном поле, с пожен снималось каждый год по 8,5 копен сена39.
Незамеченным не остался и возросший, по всей видимости, не без влияния Меркульевых, интерес ялгубских крестьян к народным – по-сути языческим – знаниям. Об этом свидетельствует факт возведения в вотчине Спасо-Хутынского монастыря, располагавшейся в волости, выставочной церкви, первое упоминание о которой находим в писцовой книге 1616 – 1619 гг. Писец П. Воейков отметил, что в монастырской деревне «на Илгоши Онисимково, Еремеевская тож» была «поставлена церковь во имя Николая Чюдотворца ново»40. В то время как при некоторых вновь возведенных или восстановленных храмах Заонежских погостов причты все еще отсутствовали, в Ялгубе уже нес служение священник Зиновий Кириллов, которому помогали дьячок Шестак Елисеев и пономарь Гришка Нестеров41. Проявив инициативу в возведении церкви, старцы обители стремились пресечь интерес мирян к знахарству и способствовать тому, чтобы именно православный храм стал подлинным центром духовной жизни крестьянского общества.
Признав за семьей Меркульевых особое положение, подтвержденное царями новой династии, Романовых, – Михаилом Федоровичем в 1616 г. и его сыном Алексеем Михайловичем в 1647/48 г., – власти не допустили закрепления на ними дополнительных земельных владений и воспрепятствовали их притязаниям на сомнительный духовный авторитет42.
Следующий этап в истории складывания взаимоотношений между родом Меркульевых и черносошными крестьянами приходится на середину 1640-х – начало 1680-х гг. Особую роль в решении разнообразных повседневных дел волости и ее духовной жизни в эти годы начинает приобретать род черносошных крестьян Окуловых.
Так, с середины 1640-х гг. в причте приходского храма состояли потомки Кондрата Окулова. Его правнук Иван Терентьев служил священником и затем передал свое место родному брату Тимофею43. Хотя сведений о священнике Тимофее пока не обнаружено, в документах фонда Олонецкой воеводской избы сохранилось известие о том, что его сын – Панкратий Тимофеев сын Попов – в 1676 г. был церковным дьячком выставочного храма44. Согласно архаичной традиции передачи должностей по старшинству в роде, все еще бытовавшей в приходах Заонежских погостов, место священника в конце 1670-х гг. занял старший племянник Тимофея Терентьева – Пахом Иванов45. Ему помогали кузен – церковный дьячок Нефедко Тимофеев, а также сын – пономарь Ивашко46.
Близкие родственники священника в 1660 – 1670-е гг., как устанавливается по документам, активно участвовали в волостном управлении. Среди них особенно много сведений выявлено о двоюродном брате клирика Никите Трифонове. Сохранилось известие о том, что в 1675/76 г. старосты погоста и «мирские люди» отправили его «ходоком» в Москву «бити челом… о стрелецкой збавы и о во-евотцких доходех и о подъемных денгах»47. В 1677/78 г. он являлся хлебным целовальником волости и в следующем году сопровождал в Олонец телеги с собранным в государевы житницы хлебом48.
Еще один двоюродный брат священника – Панкратий Тимофеев сын Попов, владевший грамотой, – привлекался олонецкими воеводами в 1660 – 1670-е гг. к исполнению разнообразных поручений. Он являлся волостным приставом и судейкой по делам, связанным со взысканием небольших сумм займов и размежеванием спорных земельных участков49.
Выявленные сведения позволяют заключить, что священник, облеченный духовной властью, и его родственники, занимая выборные земские должности и выступая доверенными лицами воевод, представляли одну из наиболее влиятельных семей, игравших значимую роль в жизни округи.
Разногласия между обельными крестьянами и черносошной общиной в лице ее выборных представителей, в том числе из рода Окуловых, отчетливо проявились в середине и конце 1670-х гг. Т.В. Старостина отметила, что служба в пашенных солдатах, продолжавшаяся с 1649 по 1666 гг., непосильные налоги и повинности, возросшие в конце 1660-х – 1670-х гг., произвол воеводских властей, череда неурожайных лет привели к разорению крестьянства и, как следствие, росту недоимок50. Москва требовала от олонецких воевод принятия самых жестких мер по сбору податей и взысканию недоимок. С этой целью, с середины 1670-х гг. сборщикам «были приданы стрелецкие отряды, вооруженные огнестрельным и холодным оружием и получившие приказ широко применять это оружие в случае сопротивления крестьян»51. В фонде Олонецкой воеводской избы сохранилась отписка стольника и воеводы Якова Максимовича Стрешнева в Приказ Новгородской четверти. Из отписки следует, что в 1680 г. ему было велено собирать «денежные доходы… по окладу» и «хлебные запасы», а также «из доимки на прошлые годы» – 1677/78 и 1678/79 гг. «безо всякие пощады, не наровя»52.
Заботы о взносе в положенный срок податей и погашении недоимок как никогда остро встали перед крестьянами Ялгубской волости, многим из которых пришлось прибегать к широко распространившейся практике займа денег и хлеба53. Вся тяжесть своевременной уплаты недоимок за малообеспеченных и разорявшихся крестьян перекладывалась на плечи старост, денежных сборщиков и целовальников, в число которых община традиционно избирала людей авторитетных и зажиточных54.
Однако весной 1680 г. старостам Шуйского погоста 1678/79 г. Ев-тешке Юрьеву, Ивашке Иванову и 1679/80 г. Кондрашке Максимову, Васке Семенову так и не удалось внести в казну к установленному сроку «хлебные запасы» за 1677/78 г. (около 13,7 четвертей ржи и 10,7 четвертей овса)55. Из-за чего уже летом того же года подьячий олонецкой избы Гаврила Якимов по приказанию воеводы держал их «в тех хлебных запасех… на правежи». При этом в челобитной, поданной в Олонецкую воеводскую избу, старосты заявляли, что «те… хлебные запасы для мирской скудости и новоприбылой меры и со-шлых крестьян и поныне не собраны, и ныне… тех хлебных запасов нам старостишкам и мирским людем собрать никоими делы не-мошно»56. Однако воевода дал отсрочку только «до зимнего пути», повелев «заплатить… тот хлеб на срок на Николин день осенней» 1680 г.57
Неплатежеспособность членов общины подталкивала старост и их помощников к поиску выхода из сложившейся ситуации, в том числе путем расширения круга налогоплательщиков за счет включения в их число обельных крестьян. Об этом свидетельствует факт обращения Прохора Мартемьянова, внука Гриши Меркульева, с челобитной в Приказ Новгородской четверти. Прося новую грамоту, челобитчик отмечал, что прежние жалованные грамоты 1601 и 1608 гг., подтвержденные в 1616 и 1647/48 гг., «от многих лет обет-шали»58. Это замечание наводит на мысль о том, что для крестьянской общины, в лице ее выборных представителей, грамоты, которые были «не подписаны» новым государем Федором Алексеевичем, не имели юридической силы.
Летом 1680 г. Никита Трифонов, являясь целовальником, мог потребовать у обельных крестьян не только взноса хлеба в государевы житницы, но и денег на мирские нужды, в том числе платы за исполнение им самим должности волостного посыльщика59. По деревням Ялгубы вместе с ним мог ходить и его двоюродный брат – священник Пахом Иванов, при этом не только в качестве авторитетного лица, воздействовавшего на паству силой слова. Среди документов фонда Олонецкой воеводской избы сохранилась челобитная Пахома Иванова, поданная в феврале 1677 г. олонецкому воеводе Якову Максимовичу Стрешневу. Приводя список из 14-ти прихожан, в числе которых были ялгубские обельные крестьяне – правнуки Гриши Меркульева Федос Тарасьев и Иван Ильин, – священник просил взыскания с них «церковные ряженые руги» и денег за исполнение частных треб60. Вполне вероятно, что священник сопровождал хлебного целовальника или даже лично навещал должников с целью получения причитающегося.
Несмотря на давление со стороны выборных представителей общины, ялгубские обельные крестьяне стали отстаивать свои старинные привилегии. Рассчитывая на покровительство царской власти, Прохор Мартемьянов отправился в Москву, в Приказ Новгородской четверти, с челобитной, в которой просил разрешить ему «по прежним жалованным грамотам… и по писцовым книгам… и по переписным книгам… белою землею… владеть»61. Помимо того, он предъявил притязания на деревню «Ананьинскую, а Минино тож», якобы пожалованную еще его предкам62. Подобная просьба, с одной стороны, была расчетливым шагом, с помощью которого, в случае развития ситуации не в пользу челобитчика, он мог просить сохранения за ним и его родственниками уже имевшегося участка. С другой стороны, за этим домогательством стояло и желание обеспечить своим разросшимся семьям должный уровень благосостояния63.
Тем не менее, судья и дьяки Приказа Новгородской четверти, заинтересованные в сохранении тяглого фонда земель, встали на сторону черносошных крестьян. В грамоте, выданной в 1686 г. в Приказе Новгородской четверти за приписью думного дьяка Емельяна Украинцева, разъяснялось подробно, что «тою деревнею Ана-ньинскою, а Минино тож… дед ево Гришка и отец ево Мартемьян-ко Григорьев и дяди ево тою деревнею не владели…, а владеют по писцовым и переписным книгам и всякия подати с той земли платят тяглые крестьяне»64. В то же время, признавая за обельными крестьянами особое положение, им был оставлен прежний участок в деревне Окуловской.
Челобитная священника с жалобой на должников позволяет предположить также, что некоторые обельные крестьяне стали добиваться не только освобождения от выплаты податей и мирских платежей, но и от взноса фиксированных мирских платежей в пользу сельского клира. Это поставило священника в крайне непростое положение: пользуясь тяглой землей, как и многие другие священнослужители карельских приходов, которым община не выделила церковных участков, клирик был обязан вносить подати наряду с мирянами65. В условиях проведения жестких мер по взысканию недоимок, он вынужден был подать соответствующий иск воеводе. Возникшие между ним и обельными крестьянами разногласия могли подогреваться и тем обстоятельством, что Меркульевы, переняв от предков тайные знания, вероятно, уклонялись от посещения храма, что, безусловно, становилось поводом для нареканий.
В свою очередь, Меркульевы не могли не знать о том, что священник находился под покровительством влиятельных родственников. Об этом позволяет отчасти судить отписка олончанина Агафона Васильева, прибывшего весной 1681 г. для взыскания недоимок за 1679/80 г. В ней он сообщал воеводе о том, что церковные причетники «живут на тяглых деревенских участках», однако, согласно утверждению земских старост, «государевых хлебных запасов не платят, отнимаютце церковным причетом»66.
В 1670-е гг. Меркульевы и Окуловы добивались поддержки среди мирян и доверия со стороны воеводы, рассчитывая на свое последующее активное участие в волостном управлении. Сохранилась 27
наказная память думного дворянина и воеводы Ивана Ивановича Чаадаева, свидетельствующая о том, что в 1676 г. члены обоих родов были привлечены к исполнению ответственного поручения. В частности, Прохору Мартемьянову и Панкратию Тимофееву Попову было велено выслать в Олонец крестьян Кижского погоста, обвинивших жителя Лижемской волости того же погоста Калину Онку-динова в «миропродавстве» и «ябедничестве»67. Из этого следует, что олонецкий воевода считал их людьми грамотными, ответственными и пользующимися авторитетом среди крестьян своей и соседней волостей.
Ощущение своего превосходства над другими и нежелание поступаться собственными интересами в условиях проведения жестких мер по взысканию недоимок привели к перерастанию разногласий в конфликт. Об одном из столкновений накануне убийства священника упоминает в своей отписке доверенное лицо воеводы, имя которого – вследствие утраты начала и конца документа – осталось безвестным. Согласно тексту отписки, за несколько дней до праздника Успения Богородицы – 16 августа 1680 г. – «на улицы у Фу-тынского крестьянина у Тимошки Гаврилова» обельный крестьянин Прохорка Мартемьянов «нашел боем с ножем» на крестьян, в числе которых, возможно, был и священник68.
Спустя несколько дней – «посли праздника Успения Пречистыя» – вновь произошла драка, теперь уже во дворе обельного крестьянина. По свидетельству Никиты Трифонова, собравшего «сторонных людей» для поимки Прохора Мартемьянова, последний выбежал на них «с рогатиной», родной брат Прохора – Тарас Мартемьянов – «с копием», сыновья-подростки – Андрюшка и Елеска, а также племянник Федос Тарасьев – «с кольем». В завязавшейся драке Никита Трифонов был избит «колием и поленьем… до великого увечья», из-за чего даже спустя полгода его самочувствие так и не улучшилось69.
Несмотря на то, что документов о розыске и судебном разбирательстве не сохранилось, можно с уверенностью полагать, что конфликт обельных крестьян с черносошной общиной и ее выборными представителями, развивавшийся с середины 1670-х гг., был так или иначе урегулирован. Хотя олонецкий воевода Иван Денисович Лукин, получив челобитную Никиты Трифонова, повелел «выслать за крепкими поруками» Прохора Мартемьянова в Олонец для расследования обстоятельств убийства священника, обельный крестьянин был оправдан и спустя какое-то время отправился в Москву, где добился признания привилегий за своим родом70.
Привлечь обельных крестьян к выплате податей общине так и не удалось.
Однако общинники нашли другой выход из ситуации: крестьяне Ялгубы потребовали проверки отчетности старост Шуйского погоста. Инициативу в подаче челобитных вновь проявили представители рода Окуловых – троюродные братья клирика Пахома Иванова – Софрон и Василий Петровы71. Обвинив одного из старост – Кирилку Лукина сына Пономарева – в присвоении мирских сумм, они уже в 1676/77 г. добились избрания «в счетчики» священника Пахома Иванова72. Уже тогда выяснилось, что Кирилка Лукин «розводил- 28
де… деньги», которые собирались «стрелецкому писцу Дмитрию Рагозину», «на дватцать вытей, а збирал с них крестьян з дватцати с пяти вытей»73. Дело на этом не завершилось: в ответ на три челобитных, поданных Софроном и Василием Петровыми в марте-июле 1680 г., олонецкий воевода распорядился выслать старост Кирилку Лукина, Ефтюшку Юрьева и Ивашку Иванова «к подлинному розыску на Олонец»74.
Предпринятые общиной меры отчасти позволили справиться с выплатой денег и хлеба в казну. В отписке, отправленной в Олонец зимой 1681 г., олончанин Агафон Васильев сообщал воеводе, что хлебные целовальники Никита Трифонов, Якушко Кирилов и Тихон Григорьев внесли часть недоимок за 1677/78 г.75 Была получена и большая часть хлебных запасов за 1679/80 г. (с 378 из 497 дворов (76 %)).
Постепенно наладилась и приходская жизнь Ялгубы. Когда миряне выбрали нового священника – точно установить не удалось. В середине 1700-х гг. в церкви продолжили служение родственники Пахома Иванова. Священником стал его двоюродный брат Нефед Тимофеев, которому помогали сын-пономарь Осип и племянник-дьячок Филат Панкратьев76.
* * *
Реконструкция истории двух крестьянских родов – обельных крестьян Меркульевых и черносошных крестьян Окуловых, – волею судеб проживавших в одной деревне, позволяет уверенно заключить, что на протяжении XVII в. их представители, добиваясь особого положения и желая сохранить его, стремились сосредоточить в своих руках управленческие функции и участвовать в решении самых насущных вопросов.
Стремительное возвышение в начале XVII в. рода Меркульевых, людей пришлых и первоначально находившихся под покровительством черносошной общины, во многом было связано с тем, что они, владея царской грамотой и лекарскими познаниями, широко пользовались ими. Оказав услуги государю и получив обельную грамоту – письменно подтверждавшую факт пожалования им в безоброчное владение участка земли, – Гриша Меркульев и его родственники самовольно, но не без молчаливого согласия общины, расширили свои владения. Значимый размер участка, который им принадлежал в конце 1610-х гг., выплаты, шедшие в их пользу с крестьян одной из ялгубских деревень, владение знаниями в области врачевания – все это свидетельствует о том, что род обельных крестьян Мерку-льевых, заручившись поддержкой части крестьянства и опираясь на царскую грамоту, выдвинулся в число наиболее состоятельных и влиятельных в округе.
В последующее время, пытаясь всячески сохранить свое положение, они должны были выстраивать отношения с государством и крестьянским самоуправлением в лице выборных представителей общины. К началу 1630-х гг. московские власти – светские и церковные, – признавая особый статус обельных крестьян, подтверж- 29
денный царями новой династии, однако преследуя интересы казны и Русской православной церкви, пресекли их незаконные попытки расширить привилегии и постарались ограничить распространение в волости тяги к знахарству путем возведения православного храма.
Предпринятые меры не могли не найти поддержки среди части черносошных крестьян, в среде которых постепенно все больший авторитет к середине столетия стал приобретать старинный род крестьян Окуловых. Овладев грамотой, они активно включились в общинное самоуправление, занимая те или иные выборные должности. В качестве выборных лиц, за оскорбление которых уже Судебник 1589 г. устанавливал штраф в пять раз выше, чем за «бесчестие пашенному крестьянину», представители рода Окуловых приобрели особое положение в волости77.
Доверие к ним общины не осталось незамеченным олонецкими воеводами, которые не раз привлекали представителей крестьянского рода Окуловых к исполнению ответственных поручений. При поддержке крестьян и содействии церковной иерархии, представители этого рода с середины 1640-х гг. рукополагались во священники, вводили в церковный причт членов своих семей.
Увеличение налогового бремени и обеднение крестьянских хозяйств, приведшие к росту недоимок, жесткие меры по их взысканию привели в 1670-е гг. к перерастанию возникших разногласий в конфликт, завершившийся драками и убийством священника.
Являясь выборными представителями общины, не имея возможности вносить в казну за неплатежеспособных крестьян недоимки из своего кармана и в то же время покрывая родственника-клирика, обязанного наряду со всеми выплачивать тягло, Окуловы стремились заставить обельных крестьян вносить подати. С одной стороны, подобная мера оправдывалась тем, что обельные грамоты к этому времени не были подтверждены новым государем Федором Алексеевичем Романовым, и поэтому в глазах общины утратили свою законную силу. С другой стороны, лица, стремившиеся участвовать в волостном управлении, и, следовательно, влиять в своих интересах на исход решения наиболее важных дел, обязаны были – и этого требовало государство – уплачивать подати со своих участков и, в случае необходимости, вносить платежи за наименее обеспеченных членов общины78.
По-прежнему полагаясь на поддержку высшей власти в лице царя, Меркульевы с готовностью отстаивали свои родовые права. Опираясь на родственные связи и знание грамоты, они сумели добиться подтверждения своих преимуществ и доказать свою невиновность в убийстве священника. Возвысившийся род крестьян Окуловых, стоявших во главе общины в 1660-х – 1670-х гг., вынужден был считаться с особым положением Меркульевых, их стремлением к выполнению поручений воеводы и, в конечном счете, их стремлением отстаивать свои права путем активного участия в решении повседневных дел общины.
Список литературы Обельные крестьяне и общинное самоуправление в Карелии XVII века: социальный конфликт как подоплека убийства сельского священника
- Суслова Е.Д. «Волостной нобилитет» Заонежских погостов во второй половине XVII в.: К вопросу о родственных связях и социальном происхождении//Научный диалог. 2015. № 12 (48). С. 341, 348;
- Швейковская Е.Н. Русский крестьянин в доме и мире: Северная деревня конца XVI -начала XVIII века. М., 2012. С. 258.
- Суслова Е.Д. «Волостной нобилитет» Заонежских погостов во второй половине XVII в.: К вопросу о родственных связях и социальном происхождении//Научный диалог. 2015. № 12 (48). С. 348.
- Чернякова И.А. Карелия на переломе эпох: Очерки социальной и аграрной истории XVII века. Петрозаводск, 1998. С. 194, 195;
- Пашков А.М. Обельные крестьяне Олонецкой губернии и их социальный и юридический статус в XVII -начале XX века (на примере Г. Меркульева, И. Рябоева и их потомков)//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2015. № 3. С. 10;
- Пашков А.М. Обельные вотчинники и крестьяне Олонецкой губернии и их социальный и юридический статус в XVII -начале XX вв. (на примере Федора Иванова и его потомков)//Рябининские чтения-2015: Материалы VII конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 2015. С. 117-119.
- Чернякова И.А. Карелия на переломе эпох: Очерки социальной и аграрной истории XVII века. Петрозаводск, 1998. С. 198, 203.
- Научно-исторический архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук (Архив СПб ИИ РАН). Ф. 98. К. 10. Д. 224. Л. 1.
- Писцовая книга Обонежской пятины Заонежской половины А. Лихачева 1563 г.//Материалы по истории народов СССР. Вып. 1. Материалы по истории Карельской АССР. Ленинград, 1930. С. 120;
- Писцовая книга Заонежской половины Обонежской пятины А. Плещеева и подьячего С. Кузьмина 1582/83 г.//История Карелии XVI -XVII вв. в документах: Asiakirjoja Karjalan Historiasta 1500-ja 1600-luvuilta. Петрозаводск; Йоэнсуу, 1993. Т. 3. С. 137-138;
- Обельные вотчинники и обельные крестьяне в Олонецкой губернии//Памятная книжка Олонецкой губернии на 1858 год: Год третий. СПб., 1858. С. 205, 206.
- Баранцев А.П. О людиковском языковом памятнике начала XVII века//Советское финно-угроведение. Т. 20. Таллин, 1984. С. 301, 302.
- Чернякова И.А. Обельные крестьяне Заонежья: О возможностях использования писцовых и переписных книг XVII в. для воссоздания отдельных крестьянских родословий//Вопросы изучения и издания писцовых книг и других историко-географических источников. Петрозаводск, 1991. С. 92.
- Чернякова И.А. Панозеро и его обитатели: Пять веков карельской истории//Панозеро: Сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск, 2003. С. 25, 26;
- Шаскольский И.П. Шведская интервенция в Карелии в начале XVII в. Петрозаводск, 1950. С. 39.
- Пашков А.М. Обельные крестьяне Олонецкой губернии и их социальный и юридический статус в XVII -начале XX века (на примере Г. Меркульева, И. Рябоева и их потомков)//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2015. № 3. С. 11, 12.
- Иванов А.И. Обельныя грамоты//Олонецкие губернские ведомости (Петрозаводск). 1841. 8 марта. № 10. С. 41.
- Грамота царя Бориса Феодоровича крестьянину Ялгубской волости деревни Андреевской Григорию Меркурьеву с племянником о пожаловании земельных угодьев 1601 г.//Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Вып. 3. Петрозаводск, 1894. С. 13.
- Чернякова И.А. Карелия на переломе эпох: Очерки социальной и аграрной истории XVII века. Петрозаводск, 1998. С. 72, 73, 195-201.
- Чернякова И.А. Обельные крестьяне Заонежья: О возможностях использования писцовых и переписных книг XVII в. для воссоздания отдельных крестьянских родословий//Вопросы изучения и издания писцовых книг и других историко-географических источников. Петрозаводск, 1991. С. 92.
- Баранцев А.П. О людиковском языковом памятнике начала XVII века//Советское финно-угроведение. Т. 20. Таллин, 1984. С. 302.
- Чернякова И.А. Обельные крестьяне Заонежья: О возможностях использования писцовых и переписных книг XVII в. для воссоздания отдельных крестьянских родословий//Вопросы изучения и издания писцовых книг и других историко-географических источников. Петрозаводск, 1991. С. 92.
- Чернякова И.А., Черняков О.В. Писцовые и переписные книги XVI -XVII вв. как источник по истории деревянного зодчества Карелии//Проблемы исследования, реставрирования и использования архитектурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 1988. С. 61.
- Суслова Е.Д. Церковно-приходская система в Карелии конца XV -начала XVIII века. Петрозаводск, 2013. С. 54-56.
- Суслова Е.Д. Служители церкви в Карелии раннего нового времени: Складывание династий. Петрозаводск, 2013. С. 46, 83.
- Старостина Т.В. Мирская челобитная Заонежских погостов 1677 г.//Вопросы истории: Сборник статей. Вып. 1. Петрозаводск, 1961. С. 109, 110;
- Старостина Т.В. Борьба крестьян Карелии против феодального гнета в 70-е годы XVII в. (Массовые волнения в Заонежских и Лопских погостах. Восстание Толвуйского погоста в 1678 г.)//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Т. VII. Вып. 1. Исторические и филологические науки за 1957 г. Петрозаводск, 1958. С. 48, 49.
- Швейковская Е.Н. Русский крестьянин в доме и мире: Северная деревня конца XVI -начала XVIII века. М., 2012. С. 258, 259.
- Суслова Е.Д. Сельское духовенство и крестьянское сообщество в Карелии в контексте социально-экономических отношений (конец XVI -начало XVIII века). Петрозаводск, 2014. С. 42, 43.
- Копанев А.И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. Ленинград, 1978. С. 219.