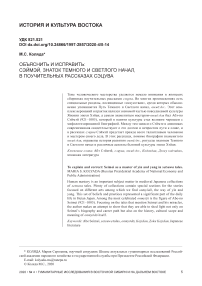Объяснить и исправить: сэймэй, знаток темного и светлого начал, в поучительных рассказах Сэцува
Автор: Коляда Мария Сергеевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 4 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
Теме человеческого мастерства уделяется немало внимания в японских сборниках поучительных рассказов сэцува. Во многих произведениях есть специальные разделы, посвященные «искусствам», среди которых обыкновенно упоминается Путь Темного и Светлого начал, оммё:до:. Этот комплекс верований и практик являлся значимой частью повседневной культуры Японии эпохи Хэйан, а самым знаменитым мастером-оммё.дзи был Абэ-но Сэймэй (921-1005), который в памяти культуры стал великим чародеем с мифологизированной биографией. Между тем записи о Сэймэе в дневниках современников свидетельствуют о его долгом и непростом пути к славе, и в рассказах сэцува Сэймэй предстает прежде всего талантливым человеком и мастером своего дела. В этих рассказах, помимо биографии знаменитого оммё:дзи, отражены история развития оммё:до:, ритуалы знатоков Темного и Светлого начал и различные аспекты бытовой культуры эпохи Хэйан.
Абэ сэймэй, сэцува, оммё:до:, кодзидан, дзоку кодзидан, японская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/170175964
IDR: 170175964 | УДК: 821.521 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-4/5-14
Текст научной статьи Объяснить и исправить: сэймэй, знаток темного и светлого начал, в поучительных рассказах Сэцува
Путь Темного и Светлого начал
Во многих сборниках поучительных рассказов сэцува можно найти разделы, так или иначе посвященные мастерам своего дела. В число «искусств», достойных упоминания, наряду с поэзией, музыкой, знанием словесности, танцем, умением играть в го , мастерством наездника, разными ремеслами, борьбой сумо и врачеванием неизменно включают мастерство гадания и оммё:до ( 陰陽道 ), Путь Темного и Светлого начал. Самым известным мастером оммё:до: в японской культуре стал Абэ-но Сэй-мэй ( 安倍晴明 ), чья биография с веками обросла легендами.
Предания о Сэймэе изложены во многих сборниках сэцува , включая самый объемный памятник жанра – «Собрание стародавних повестей» (« Кондзяку моногатари сю: », XII в.) и такое знаменитое произведение, как «Рассказы, собранные в Удзи» (« Удзи сю:и моногатари », XIII в.)1. Два рассказа о Сэймэе есть в собрании поучительных рассказов «Беседы о делах старины» (« Код-зидан », нач. XIII в., составитель – Минамото-но Акиканэ), где мастерам своего дела отведен шестой раздел, включающий в себя и рассказы об оммё:до: . Именно эти рассказы вместе с некоторыми другими историями из не самых известных сборников сэцува станут основным материалом для нашего рассказа о Сэймэе.
В культурной памяти Сэймэй не просто превратился в величайшего оммё:дзи , но даже стал считаться не совсем человеком: его способности чудотворца иногда объясняются тем, что Сэймэй – сын лисицы, а не простой смертный2. Между тем, он был историческим лицом, знатоком Темного и Светлого начал на службе у государя, и в сборниках сэцува по большей части его образ тоже еще не совсем фантастический. Здесь Сэймэй – человек и мастер своего дела, с особенными талантами, но не единственный среди собратьев по Пути.
Он прожил долгую жизнь: считается, что родился Абэ-но Сэймэй в 921 г., а умер в 1005 г., и его потомки наследовали его ремесло на протяжении многих поколений. В дневниках современников остались записи о работе Сэймэя. Си-гэта Синъити собрал эти упоминания в таблицу, которая наглядно демонстрирует, в каких видах деятельности были задействованы оммё:дзи. В обязанности Сэймэя входили: выбор удачного времени для разнообразных мероприятий, в том числе буддийских ритуалов; проведение ритуалов для борьбы с эпидемией; объяснение знамений и небесных явлений; изгнание демонов; проведение очищений от скверны; проведение ритуалов защиты от пожара; определение удачных или неудачных мест для строительства; выяснение причин болезни; проведение ритуалов хэнбай и Тайдзан Фукун сай (о них мы скажем ниже).
Сэймэй, достигший, хоть и совсем не в юности, положения высокопоставленного оммё:дзи , проводил ритуалы в основном для первых лиц страны: для канцлера Фудзивара-но Митинага, государей и членов их семьи. Перечень исполняемых им ритуалов и гаданий отвечает обязанностям служащего Оммё:рё: ( 陰陽寮 ) ‒ Ведомства Темного и Светлого начал.
Наличие такого ведомства в структуре государства не удивительно: изначально становление оммё:до: происходило прежде всего в связи с потребностями государства. Не столько религия, сколько набор полезных для обустройства мира практик, оммё:до: зарождалось на основе элементов разных китайских учений (в том числе даосизма и конфуцианства), переосмысленных на японской почве [11, p. 36]. Называясь Путем Темного и Светлого начал, оно отнюдь не ограничивалось концепцией гармонии инь и ян или теорией пяти элементов (у-син). Не только гадания, но и астрономия3, календарное дело, измерение времени были в ведении Оммё:рё:4. Эти основные направления деятельности ведомства были закреплены в законодательном своде «Тайхо: рицурё:» (701 г.). Статья 9 второго закона этого кодекса определяет обязанности начальника Ведомства Темного и Светлого начал следующим образом: «Ведает астрономическими наблюдениями, составлением календарей, наблюдением за движением облаков и ветров; докладывает государю секретным посланием о необычных явлениях» [5, с. 27]. В подчинении у главы ведомства находились секретарь, два писца, шесть астрологов, которым полагалось гадать «на бамбуко- вых палочках и по рельефу местности», астролог-преподаватель, ученый-календарист, ученый-астроном, ученый-хронолог, ученики всех четырех специализаций, часовщики, служки и охранники [5, с. 28].
Собственно оммё:дзи в этом законе и есть астролог, хотя позже так могли называть и специалистов других направлений. С течением времени к «объяснительной» работе знатока Темного и Светлого начал добавлялось все больше работы ритуальной, а пользоваться услугами оммё:д-зи мог не только государь, но и аристократы по личным надобностям. Спектр искусств, относящихся к Пути Темного и Светлого начал, был еще шире, чем обозначено в « Тайхо:рё: »: например, самое раннее известное упоминание Ом-мё:рё: связано с медициной. Все эти искусства, имеющие китайские корни, были постепенно принесены в Японию переселенцами с материка, в том числе буддийскими монахами и монахинями, и даже сама организация ведомства имела китайский образец. Отличие состояло в том, что в китайской системе одно ведомство ведало астрономией, календарем и клепсидрой, а другое – гаданиями, в Японии же их объединили [11, p. 20‒23]. В VII и начале VIII вв. государи неоднократно предписывали монахам, сведущим в искусствах оммё:до: , вернуться к светской жизни ради развития и передачи этих искусств. Очевидно, правительство считало прогресс оммё:до: задачей государственной важности, поскольку оно могло предоставить средства, способствующие процветанию страны.
Любопытно, что самим монахам в « Тайхо:рё: » прямо запрещаются гадание и другие «чародейские» практики, но не возбраняется лечить людей заклинаниями-мантрами ( дзю ), по «буддийским правилам». Тем не менее, в эпоху Хэйан некоторые монахи тоже практиковали оммё:до: наряду с исцелением заклинаниями; о них мы скажем ниже.
Эти ограничения для монахов не означают, что Путь Темного и Светлого начал воспринимался как религия. Можно считать его разновидностью мастерства, видом искусства (в значении τέχνη) или набором искусств – и такому восприятию способствует литература сэцува, где рассказы о Пути Темного и Светлого начал помещаются в ряд прочих «путей»: это справедливо и для «Кондзяку», и для «Кодзидан». Можно рассматривать оммё:до: (в понимании средневековых японцев) прежде всего как группу профессионалов, занятых определенной деятельностью, в основном под контролем вышестоящих чинов ведомства Оммё:рё: ‒ такой подход предлагает Сигэта Синъити [12, p. 91]. Исследователь подчеркивает: Путь Темного и Светлого начал – не религия, а работа; есть ом-мё:дзи, о которых известно, что они были буддистами, есть пример знатока Темного и Светлого начал, построившего храм на собственные средства [13, p. 69].
С этой точкой зрения можно согласиться: не потому, что нельзя представить совмещение наследия различных религий в новом течении, а потому, что оммё:до: не хватает признаков настоящей религии. Действительно, Путь Темного и Светлого начал являлся системой, в которую были инкорпорированы элементы различных учений, причем иногда изначально уже тесно взаимосвязанные. Так, известно, что существовали – и были привезены в Японию – буддийские тексты, в которых буддизм сочетался с элементами других китайских религий, в т.ч. даосизмом. В подобных текстах в числе прочего рассказывается о божествах направлений ‒ связанные с ними запреты стали заметной частью бытовой культуры японской аристократии эпохи Хэйан. Оммё:дзи проводили ритуалы, связанные с почитанием божеств очага – тоже китайского происхождения. Знаменитый ученый-астролог, оммё: хакасэ IX в. Сигэока-но Кавахито ( 慈岳川人 )5 проводил ритуалы для защиты полей от насекомых-вредителей, а построены эти ритуалы были на основе сочинений конфуцианца и приверженца теории гармонии Темного и Светлого начал [11, p. 32]. Аналогичные действа проводили и другие оммё:дзи .
В X в. появились и первые японские тексты по гаданию и другим искусствам оммё:до: [1, с. 65; 11]. Среди авторов этих сочинений – сам Сэймэй и его учитель, Камо-но Ясунори ( 賀茂 保憲 ). Приписываемый Сэймэю текст «Сокращенные записи о гадании» (« Сэндзи ряккэцу» ) сохранился по сей день.
Когда все разнородные религиозные и философские элементы переосмыслялись в Японии, превращаясь в Путь Темного и Светлого начал, первостепенную значимость обретала не теоретическая их составляющая, а практическая сторона. Японцев интересовала прежде всего польза, которую можно извлечь в посю- стороннем мире, раз его можно благоустроить с помощью полученных знаний. Оммё:до: создавалось как инструмент для улучшения бытия здесь и сейчас. Однако утверждение Сигэта Синъити, что Путь Темного и Светлого начал, по сути, являет собой группу различных и не взаимосвязанных практик и концепций [13, p. 68], нуждается, на наш взгляд, в дополнении. Можно предположить, что в основе этого сплава идей все же лежали определенные мировоззренческие установки, которые и стали связью между ними. Эти установки касались ощущения целостности мира.
Главе Ведомства Темного и Светлого начал вменялось в обязанность докладывать государю о «необычных явлениях». Что именно можно считать «необычным», закон не уточняет, но различные тексты позволяют предположить: что угодно, если оно отличается от привычного порядка вещей. Речь не обязательно о явных знамениях, вроде появления чудесной черепахи. Позже при выявлении чего-либо «необычного» к услугам оммё:дзи стали прибегать в частном порядке и другие люди. Такая ситуация не раз упоминается в рассказах из разных сборников сэцува . Странность нужно объяснить – ведь ничто не происходит просто так, каждое событие что-нибудь значит в связности мира. Любое явление может быть не просто явлением, а знаком , у которого есть означаемое. Оммё:дзи же способны «прочитать» мир, толковать знаки. Они могут судить о значении происходящего и его причинах, если нужно, могут понять, как исправить что-то в данном состоянии мира. В основе такой деятельности должен лежать взгляд на мир как на единое целое, где все связано со всем, что и позволяет проследить корреляцию между двумя явлениями, не имеющими отношения друг к другу с точки зрения обыденной логики.
Оммё:до: и медицина
Согласно записям в дневниках, Сэймэю не раз приходилось гадать о причинах болезни. В « Кодзидан » именно вокруг выяснения причины недуга строится второй рассказ о Сэймэе ‒ сюжет, который не встречается в других сборниках сэцува .
« Кодзидан », 6–64
Сэймэй, хоть и был мирянином, подвижни-чал в Нати6 тысячу дней. Каждый день один час он стоял под водопадом. Говорили, что в прошлой жизни он был безупречным подвижником в Ооминэ. Когда царствовал государь-монах Кадзан7, государя, бывало, мучили головные боли. Особенно когда погода была к дождю – государь не знал, что и делать. Как только ни лечили – не было никакого толку. Тогда Сэймэй Асон сказал:
– В прошлой жизни вы были безупречным подвижником. В таком-то месте в Ооминэ вы упокоились с миром. В награду за добродетель в прошлой жизни в нынешней вы родились Сыном Неба, но череп вашего прошлого тела упал в расщелину между скалами и там застрял, в дождливую погоду набухает, скалы сжимают его, и тогда вы в нынешнем теле ощущаете такую же боль. Поэтому лечение вам не поможет. Пожалуй, вы исцелитесь наверняка, если извлечете ваш череп и поместите в просторном месте.
Вот что сказал Сэймэй и объяснил: искать на дне такого-то ущелья. Отрядили туда людей на поиски, и все оказалось точно, как он сказал. После того как голову извлекли, государь навсегда исцелился от головных болей, – так говорят.
В кодексе «Тайхо:рё:» не указано прямо на связь оммё:до с медициной, но это была, как кажется, важная часть деятельности знатоков Темного и Светлого начал. В хэйанской Японии лечением людей занимались три типа мастеров: собственно лекари, буддийские монахи и оммё:дзи. Первые могли бороться с болезнями, вызванными «естественными» причинами, использовали лекарства и акупунктуру. Среди поучительных рассказов в различных сборниках сэцува можно найти и посвященные лекарям. Монахи молились, проводили особые обряды и читали сутры. Оммё:дзи же гадали о причинах болезни. В тех случаях, когда лекари были не в силах справиться с болезнью (и полагали причину вне «естественного»), они могли посоветовать больному обратиться к монаху. Если причину заболевания видели в воздействии злых духов или демонов, то помощь мог оказать монах, если же недомогание вызвано «гневом» духа или божества, следовало обратиться к оммё:дзи [10, p. 49–50]. В подобной системе взглядов способность знатока Темного и Светлого начал определить причину болезни, чтобы стало возможным выбрать правильного специалиста, вероятно, представлялась весьма важной. Пример «разделения труда» между разными мастерами врачевания можно видеть в «Сборнике избранных рассказов» («Сэндзю:-сё:», сер. XIII в.): здесь знаменитый лекарь, Сэймэй и монах работают сообща.
« Сэндзю:сё: », 8–29
Люди говорили, что общинный старейшина [Гё:сон] из Бё:до:ин8 изумляет. Однажды, посещая дворец, он встретил святого Ку:я9 и заметивши, что левая рука Ку:я искривлена, спросил, что с ней случилось.
– Это я в детстве упал с веранды и сломал ее, – ответил святой.
– Тогда я бы попробовал молитвой исцелить ее. Что скажешь?
– Будет прекрасно, если ты поступишь так.
– Ну что ж, тогда…
[Гё:сон] трижды прочел заклинание- дхарани , [обращенное] к бодхисаттве Каннон с непустыми силками10. И не успел он закончить, как рука исцелилась. [Ку:я] высоко ценил и это чудо11, и общинного старейшину.
А еще, когда царствовал государь-монах Итидзё:12, ему преподнесли дыни из края Ямато. Лекарь по имени Масатада как раз был во дворце и сказал:
– Одна из этих дынь содержит страшный яд. Кто ее съест – сразу умрет.
Об этом доложили Мидо:13.
– Дело странное. Пошлите за Сэймэем, он все объяснит.
Послали за оммё:дзи по имени Сэймэй, и было ему велено:
– С этими дынями что-то не то. Погадай и скажи.
Сэймэй вскорости доложил, что ощущает присутствие сильного духа. Потому решено было позвать Гё:сона, чтобы он помолился. Послали за ним, и когда [Гё:сон] сотворил заклинание-дхарани, сей же час среди множества дынь одна большая дыня пустилась плясать, подскакивая на два-три сяку над дощатым настилом, снова и снова. В конце концов она разломилась изнутри пополам, и показалась змея в сяку с лишним длиною, поползла, не разбирая дороги, и потом умерла. Очень странно это было!
Я не слышал о таких случаях в древности, и думается, что и в последнем веке подобного уже не бывает. Масатада, Сэймэй и Гё:сон были в свое время важными людьми, снискавшими почет. Ныне мир пришел в упадок и таких достойных людей уже не встретишь. Даже отвернувшись от мира14, преисполняешься печалью.
Примечательно, что в первой половине этого рассказа монах с помощью своих методов исцеляет недуг, который силами лекарей вылечить, видимо, в свое время не получилось.
Сэймэй и ритуалы
Какие же средства «лечения» были доступны оммё:дзи , если они могли не только гадать о причине болезни? Одним из них можно считать упомянутый выше ритуал Тайдзан Фукун сай ( 泰山府君祭 )15. Он был призван умилостивить Тайдзан Фукун и других божеств загробного мира, чтобы снискать их покровительство и защиту и продлить срок жизни16, отпущенный просящему [12, p. 93]. В свое время Сэймэй популяризировал этот ритуал [12, p. 94]. Всего же к концу эпохи Хэйан оммё:дзи проводили более сорока различных ритуалов, нацеленных на то, чтобы испросить здоровья и долгой жизни для молящегося [11, p. 35].
Другой ритуал, упоминаемый в дневниках современников Сэймэя, – хэнбай (反閇). Как и Тайдзан Фукун сай, он имеет китайское происхождение, но был модифицирован в Японии. Он должен был обеспечить человеку безопасность в незнакомом или опасном месте и также проводился в случае переезда в новый или давно не жилой дом, поскольку считалось, что в жилищах могут обитать демоны и духи и без их умиротворения туда входить опасно17 (Сэймэй, возможно, первым из оммё:дзи стал использовать хэнбай в таком качестве для государя [12, p. 79; 13]).
Оммё:дзи здесь выполняют, по сути, мироустроительную функцию. Во вселенной, где кроме человека обитает еще множество различных сущностей, они могут хотя бы отчасти делать окружающий мир более благоприятным для людей: например, обеспечить безопасность в пути или превратить здание в пространство, пригодное для жилья. Ритуалы, направленные на продление жизненного срока человека или избавление его от проклятий, по смыслу также к этому близки: пользуясь возможностью взаимодействовать с миром иначе, чем могут обыкновенные люди, оммё:дзи улучшает положение вещей для конкретного человека, действуя в рамках общих законов, по которым функционирует мир. Иначе говоря, если деятельность знатока Темного и Светлого начал результатом будет иметь «чудо», то это будет не чудо как явление, нарушающее естественный порядок вещей. Скорее, это будет явление, восстанавливающее порядок и во всяком случае не выбивающееся из него, пусть и удивительное на сторонний взгляд.
Еще более явно стремление обустроить наиболее удобный для человека мир видно в хэйанском подходе к топографии. Четыре божества ‒ Сэйрю: ( 青龍 ), Судзаку ( 朱雀 ), Бякко ( 白虎 ) и Гэмбу ( 玄武 ) ‒ соотносились с разными особенностями ландшафта (текущая вода, стоячая вода, дороги и возвышенности), ом-мё:дзи же могли судить о том, как организовать ландшафт в имении таким образом, чтобы все силы пребывали в гармонии, а обитатель имения получил защиту четырех божеств [13, p. 70–71].
Отношения между миром и человеком нашли свое отражение и в традиции запретов на направления. Различные запреты занимали заметное место в повседневной культуре хэйанских аристократов. Среди них – катаими, запреты двигаться в определенную сторону от жилища (или совершать там определенные действия), связанные с пребыванием в этой стороне одного из божеств. В основе таких запретов лежали верования китайского происхождения, которые в Японии были усвоены на ранних этапах развития оммё:до:. Отметим, что в Китае первоначально эти верования связывались, вероятно, с влиянием на жизнь человека определенных звезд и планет [1, с. 61]. Здесь, таким обра- зом, некогда существовала связь с астрономией, которая тоже нужна была прежде всего для предсказаний, поскольку считалось, что расположение небесных светил соотносится с судьбой человека. Свидетельства о соблюдении или нарушении запретов на направления в Японии относятся к IX в., а к X в. – упоминания о способах обойти запрет (например, можно было провести ночь накануне появления божества не в собственном жилище, в другом месте, чтобы и божество явилось в другой стороне). Запреты могли налагать существенные ограничения на повседневную деятельность, например, на возможность вести строительные работы, потому неудивительно, что люди нуждались в способах их преодолеть.
Основные божества, цикл передвижений которых являлся причиной катаими , были не единственной опасностью, которую стоило учитывать, затевая перемены в окружающей среде. В « Кондзяку моногатари сю: » (24–13) можно найти рассказ о том, как трудно было Сигэока-но Кавахито спастись от разгневанного божества земли, по ошибке потревоженного при выборе места для государевой усыпальницы. Почему знаменитый мастер Пути Темного и Светлого начал совершил такую ошибку, неизвестно. Можно предположить, что его просчет мог быть вызван не столько недостатком умений самого Кавахито, сколько неверными основаниями, из которых он исходил: между ом-мё:дзи случались споры о различных моментах ритуала и даже о соблюдении запретов. Причем разночтения происходили не только из-за различия в толкованиях текстов, но еще и потому, что мастера часто имели доступ к разным текстам [1]. Доступ к секретным текстам – важная тема в предании о трагедии Сэймэя, которого обманул его ученик Асия Доман, скопировав принадлежащее учителю тайное писание [2, с. 52‒53].
Не менее страшными выглядят в сэцува и последствия несоблюдения моноими, «удаления от скверны», которое представляло собой фактически общий запрет на контакты с внешним миром. В 24-ом свитке «Кондзяку» есть рассказ именно об этом: герой, которому грозило проклятие, мог послушаться оммё:дзи и соблюсти моноими, и тогда остался бы жив, но он нарушает запрет и гибнет – от проклятия другого мастера Темного и Светлого начал. Любопытно, что саму возможность спастись, хоть и упущенную, он получил лишь потому, что сначала в его доме стали происходить странные события, и оммё:дзи верно истолковал их, посоветовав уйти в затвор.
В целом оммё:дзи , тем более во времена Сэ-ймэя, совсем не ограничивались составлением календарей и предсказаниями. Они проводили большое количество разнообразных ритуалов. Помимо уже упомянутых устраивали, например, Горю:сай ( 五龍祭 ) – Праздник пяти Драконов, церемонию вызывания дождя во время засухи; занимались изгнанием злых духов, а также очищением домов от скверны, связанной со смертью и другими обстоятельствами. Изгнание демонов в масштабе целой страны, важнейший для страны ритуал, называлось цуйна ( 追儺 ) и проводилось при дворе в последний день года. Со временем аналогичные ритуалы стали проводить в своих имениях аристократы [12, p. 80]. Неисполнение этой церемонии, как считалось, грозило бедствиями, например, мором, который насылают не изгнанные вовремя демоны. Когда в 1001 г. из-за траура в государевой семье во дворце не стали проводить цуй-на , в знатных домах тоже отменяли совершение ритуала, но Сэймэй провел его в собственном доме, и тогда люди стали повторять за ним [12, p. 80; 7, с. 59].
Что касается Сэймэя, считалось, что в гаданиях он не ошибается, исполняемые им ритуалы современники признавали действенными, что позволяло ему продвигаться по службе или получать дополнительные награды за труды [12, p. 81].
Как Сэймэй достиг могущества
Если бы прибегающие к помощи Сэймэя люди не считали его действия эффективными, он не смог бы достичь высокого места в иерархии оммё:до:. Но и наоборот, отчасти именно продвижение по службе давало оммё:дзи возможность по-настоящему проявить себя. Упоминания о деятельности исторического Сэй-мэя18 в основном можно увидеть в дневниках с 967 по 1005 гг. [12]. Известно, что Сэймэй умер в возрасте 85 лет. То есть все записи о его деятельности относятся к зрелому и старшему возрасту, и путь его к славе, видимо, вовсе не был головокружительно быстрым. Считается, что Сэймэй учился у Камо-но Ясунори, в 972 г. стал ученым-астрономом (тэнмон хакасэ) и только около 986 г., когда ему уже было за 60, достиг высшего ранга19, исполняя службу оммё:дзи при Куро:до докоро [12, p. 96].
Но когда Сэймэй превращается в литературного героя в сэцува , то приобретает, как и положено идеальному мастеру своего дела, врожденные таланты. Это и способность к Пути в целом (причем такая, что ее могут увидеть и оценить старшие приверженцы оммё:до: ), и очень важное для знатока Темного и Светлого начал умение видеть демонов и духов. В « Син саругакуки » (1066 г.) Фудзивара-но Акихира вымышленный идеальный оммё:дзи описан как обладатель тела человека и сердца, способного общаться с духами и демонами [12, p. 81]. В « Кондзяку моногатари сю: » (24‒16) рассказывается, будто молодой Сэймэй, сопровождая в поездке наставника (не Ясунори, а его отца, Тадаюки), смог, к удивлению последнего, увидеть демонов, встретившихся на их пути. В предыдущем рассказе аналогичным образом характеризуется Ясунори: ребенком он видит духов, хотя его отцу требуются значительные усилия, чтобы научиться их видеть.
Тем не менее, « Кондзяку » не оставляет все лишь на откуп врожденному таланту: всякий раз рассказчик подчеркивает и значительное усердие, проявленное в постижении Пути. Так происходит и с другими искусствами: действительно выдающиеся мастера хотя и рождаются с превосходными задатками, все равно добиваются высот своим трудом.
Приведенный выше рассказ из « Кодзидан » любопытен еще и тем, что в нем сообщается о подвижничестве Сэймэя. Это еще одна версия становления легендарного мастера, и поскольку Акиканэ, составитель сборника, упоминает факт подвижничества, он, видимо, считает, что невероятными способностями, как и результативностью ритуалов, Сэймэй обязан упорному труду на стезе духовного совершенствования. Более того, Акиканэ прямо говорит и о подвижничестве в прошлой жизни, таким образом сразу и объясняя таланты, коими оммё:дзи обладает в нынешнем рождении, и проводя параллель с историей государя Кадзана.
Третью версию профессионального пути Сэймэя можно найти в «Продолжении бесед о делах старины» (« Дзоку Кодзидан »), сборнике XIII в.:
« Дзоку Кодзидан », 5–13 (133)20
Когда Сэймэй был оотонэри 21, он отправился к мосту в Сэта22, надев плетеную шляпу. Дзико:, увидев его, понял, что Сэймэй станет хорош в их искусстве. Воодушевленный этим, Сэймэй пришел к знатоку Темного и Светлого начал по имени Гусэн, но в ученики его не приняли. Тогда Сэймэй пришел к Ясунори, и тот, познакомившись с ним, принял его. Сэймэй стал чародеем. В таланте и образованности никто не мог его превзойти. В споре с Мицуёси [сыном Ясунори] Сэймэй сказал:
– При Ясунори Мицуёси никогда не ставили выше меня.
Мицуёси сказал:
– Любимый ученик и нелюбимый сын – не одно и то же.
– Собрание [писаний] Ста домов [знатоков Темного и Светлого начал] было передано мне, – сказал Сэймэй. – А не Мицуёси. Это и есть подтверждение моим словам.
Мицуёси же на это сказал:
– Собрание Ста домов было у меня. И Путь календаря отец передал мне.
Любопытно, что составитель «Продолжения» не включил в свой сборник два рассказа о Сэймэе из «Кодзидан», а вместо того предпочел рассказать этот сюжет, где Сэймэй предстает в гораздо более спорном образе. С другой стороны, здесь Сэймэй выглядит человеком, упорно ищущим наставника на выбранном Пути (выбранном, видимо, сознательно, а не по семейной традиции). Соперничество Сэймэя, любимого ученика Ясунори, с Мицуёси, видимо, имело место в реальности. Потомки Сэймэя и потомки Мицуёси составили две линии преемственности искусств оммё:до:, первые занимались гаданием и чародейством, а вторые – календарным делом. Тем не менее, предания о том, что сам Ясунори хотел оставить своей семье лишь календарь, могут быть просто отражением уже сложившейся исторически ситуации, объясне- нием постфактум, которое не имеет ничего общего с волей настоящего Ясунори [12, p. 86]
Что касается Мицуёси, его признали лучшим оммё:дзи лишь после смерти Сэймэя, и лишь тогда он смог проводить самые важные ритуалы для государя.
Тем не менее, можно согласиться с оценкой Такамура Синдзи: в « Дзоку кодзидан » Сэймэй не похож на человека, обладающего властью и занимающего твердое положение в мире оммё:-до: [7, с. 65]. Скорее, здесь изложена история борьбы человека, который, не принадлежа к семье потомственных оммё:дзи , сумел постигнуть интересное ему искусство и достичь высокого положения в обществе в непрестанном состязании с теми, кто изначально находился в более выгодной позиции. Это соотносится с тем, что, как дают нам понять дневники, Сэймэй шел к высшим должностям дольше, чем другие ом-мё:дзи . Но он сумел отстоять свою позицию, поспорить за наследие Ясунори и дать начало новой семье знатоков Темного и Светлого начал.
Чары и проклятия
Второй рассказ с упоминанием Сэймэя в «Беседах о делах старины» содержит сюжет, куда более известный по сравнению с первым: эта история повторялась в других сборниках сэцува , в том числе ее можно найти в « Удзи сю:и моногатари ». Однажды любимая собака канцлера Митинаги повела себя странно, не желая пускать его в ворота будущего храма Хо:дзё:дзи, который строил канцлер. Митинага призвал Сэймэя, который обнаружил зарытую в землю проклятую вещь и объяснил, что собаки обладают небольшими чудесными способностями, потому Митинаге и повезло, а потом помог найти злонамеренного чародея с помощью бумажной фигурки, которую заклинанием обратил в птицу. Заговор против Митинаги был раскрыт, а сановник спасен.
Как и в рассказе из « Сэндзю:сё: », Сэймэй, которого требует к себе Митинага для прояснения «необычных» обстоятельств, оказывается способен распознать проклятие. Но, скорее всего, ни в одном сборнике сэцува не найдется рассказа, в котором Сэймэй сам использовал бы на людях вредоносные чары, при том что в пересказанном выше эпизоде прямо говорит – ему эти чары известны.
Деятельность оммё:дзи на службе государства контролировалась вышестоящими собратьями по Пути, и если знаток Темного и Светлого начал прибегал к запретным техникам, его наказыва-ли23. В дневниках аристократов проклятия упоминаются множество раз, но служилые оммё:дзи не занимались подобными вещами. Занимались, например, монахи – знатоки Темного и Светлого начал, хо:си оммё:дзи, такие как До:ман, у которых, в свою очередь, была собственная линия преемственности [12, p. 91]. В рассказах «Конд-зяку моногатари сю:», посвященных искусству Темного и Светлого начал, особенно оговаривается, что злодеяния совершали не оммё:дзи на службе государя. Так, например, в упомянутом выше рассказе о нарушении моноими «негосударственный» знаток Темного и Светлого начал нанимается проклясть человека по заказу его врага, в то время как другой оммё:дзи его защищает. В другом рассказе (24‒16) Сэймэя спрашивают о том, может ли он убить человека, используя прислуживающих ему духов-сикигами. И он отвечает, что сделать это возможно, и даже демонстрирует свои способности по просьбе спрашивающих, не имея к тому особенного желания, но говорит: человека убить нелегко, букашку убить – пустяк, но оживить ее я не умею, так что просто совершу бессмысленный грех. Иными словами, Сэймэй здесь обладает поистине пугающим могуществом, но отказывается использовать свое могущество во зло.
Интерпретация поучительных рассказов, представленная в нашей статье, разумеется, ограничена, поскольку всю красочность смысловых оттенков сэцува можно по-настоящему оценить только в совокупности рассказов, во взаимосвязи историй, расположенных рядом, и всех сюжетов сборника в целом. Тем не менее, даже по немногим рассказам, в которых фигурирует Сэймэй, можно видеть, как отразилась в этой литературе традиция оммё:до:. Видно, что знатоков Темного и Светлого начал воспринимали как мастеров в определенном искусстве, как врачей и др. Рассказчики предполагают наличие предрасположенности к этому искусству, но и необходимость труда для совершенствования в нем. Оммё:дзи имеют дело со сверхъестественными вещами, что не мешает помещать их искусство в ряд прочих искусств. Нашли здесь косвенное отражение аспекты истории становления оммё:до: – и на уровне, когда этот Путь имел государственную важность, и на уровне, когда приносил пользу обыкновенным людям. Оммё:до: было важной частью повседневной культуры хэйанских аристократов и, как представляется, прежде всего целью своей имело мирские блага и удобства – для отдельного ли человека, для страны ли в целом. Путь Темного и Светлого начал предоставлял конкретные возможности для того, чтобы объяснить события, происходящие в мире, а затем при необходимости повлиять на положение вещей, чтобы сделать его более приемлемым для человека. Оммё:до: являлось средством толковать мир и договориться с ним.
Сэймэй, выдающийся оммё:дзи , в традиции стал посредником между миром посюсторонним и потусторонним. Он превратился в воплощение идеального знатока Темного и Светлого начал, который уже больше, чем «просто» человек: его глаза видят больше, чем положено людям, и его воля способна на большее, чем воля людей. Может быть, именно поэтому впоследствии так прижилась в культуре идея происхождения Сэй-мэя от лисицы и прочие его фантастические образы. Но в сэцува он все еще человек – и прежде всего человек, достигший невероятного мастерства на выбранном Пути.
Список литературы Объяснить и исправить: сэймэй, знаток темного и светлого начал, в поучительных рассказах Сэцува
- Бачурин А.С. Запреты на направления (ка-таими) в период Хэйан // История и культура традиционной Японии. М.: РГГУ, 2008. С. 59-97.
- Кикнадзе Д.Г. Магико-мантическая практика Оммёдо в средневековой Японии (по материалам сборника «Удзи сюи моногатари», XIII в.) // Религиоведение. 2013. № 4. С. 48-58.
- Кодзидан. Дзоку кодзидан (Беседы о делах старины. Продолжение бесед о делах старины) // Син Нихон котэн бунгаку тайкэй. Т. 41. Под ред. Кавабата Ёсиаки, Араки Хироси. Токио: Иванами, 2005.
- Кондзяку моногатари-сю: (Собрание стародавних повестей) // Син Нихон котэн бунгаку тайкэй. Т. 36. Под ред. Коминэ Кадзуаки, Яма-гути Акио. Токио: Иванами, 1994.
- Свод законов «Тайхорё». 702-718 гг. I-XV законы. М.: Наука, 1985.
- Сэндзю:сё: (Собрание избранных историй). URL: http://yatanavi.org/text/senjusho/m_ senjusho08-29
- Такэмура Синдзи. Сисё, никки ни миру Сэймэй (Образ Сэймэя в исторических произведениях и дневниках) // Кокубунгаку кайсяку то кансё:. 2002. № 67. С. 54-66.
- Трубникова Н.Н. Злые силы в «Собрании стародавних повестей»: рассказы о демонах, оборотнях и прочей нечисти // Ежегодник Япония. 2019. Т. 48. С. 287-320.
- Трубникова Н.Н., Бачурин А.С. История религий Японии IX-XII вв. М.: Наталис, 2009.
- Hayek, M., 2006. Abe no Seimei (921-1005) and illness: physicians, masters of the way of the yin and yang, and monks in ancient-medieval narratives (11th-13th centuries). Sokendai Review of Cultural and Social Studies, no. 2, pp. 47-52.
- Masuo, S., 2013. Chinese religion and the formation of onmyodo. Japanese Journal of Religious Studies, vol. 40, no. 1, pp. 19-43.
- Shigeta, S., 2013. A portrait of Abe no Seimei. Japanese Journal of Religious Studies, vol. 40, no. 1, pp. 77-97.
- Shigeta, S. and Thompson, L., 2012. Onmyodo and the aristocratic culture of everyday life in Heian Japan. Cahiers D'Extrême-Asie, Vol. 21, pp. 65-77.