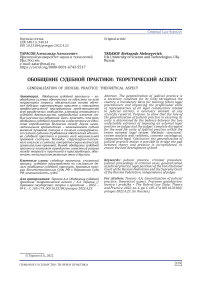Обобщение судебной практики: теоретический аспект
Автор: Тарасов Александр Алексеевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4 (70), 2022 года.
Бесплатный доступ
Обобщение судебной практики - необходимое условие обеспечения ее единства на всей территории страны, обязательная основа обучения будущих практикующих юристов и повышения профессиональной квалификации представителей всех юридических сообществ, имеющих отношение к судебной деятельности, необходимый элемент любых научных исследований. Цель: показать, что роль обобщения судебной практики в обеспечении ее единства определяется балансом между двумя нежелательными крайностями - навязыванием судьям внешней правовой позиции и полным игнорированием самими судьями требования обеспечения единства судебной практики в рамках всей национальной правовой системы. Методы: структурно-системного анализа и синтеза, конкретно-социологический, сравнительно-правовой. Вывод: обобщение судебной практики позволяет преодолеть известный разрыв между теорией и практикой в юриспруденции, обеспечить оптимальное развитие того и другого.
Судебная практика, уголовный процесс, судебное производство по уголовным делам, обобщение судебной практики, правовые позиции конституционного суда рф и верховного суда рф, независимость судей
Короткий адрес: https://sciup.org/142236909
IDR: 142236909 | УДК: 340.13, | DOI: 10.33184/pravgos-2022.4.23
Текст научной статьи Обобщение судебной практики: теоретический аспект
Обобщение судебной практики -обязательны I й элемент профессиональной юридической деятельности
Обобщение практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях определенного вида (например, о хищениях или убийствах), или с использованием конкретных видов производств (например, судом с участием присяжных заседателей), или отдельных процедур (например, производства судебной экспертизы по уголовным делам), или даже проблем одного, но самого важного процессуального решения - судебного приговора - это основа формирования официальной позиции выIсшего органа судебной власти, выIраженной в тематических постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
Обобщение судебной практики лежит в основе ее тематических обзоров, используемых для обучения судей и сотрудников аппаратов судов, повыIшения их профессиональной квалификации. Какие бы научные терминыI не использовались в системе повышения квалификации судей, информационную базу для него всегда будет составлять обобщение большого массива уже рассмотренных уголовныIх дел, прошедших разные судебные инстанции. Обобщение судебной практики всегда было и будет впредь основой для повышения квалификации любых практикующих юристов, имеющих отношение к судебной деятельности, - адвокатов, прокурорских работников, судебных экспертов, технических работников всех организаций, которые представляют профессиональные участники любых судебных разбирательств.
Обобщение судебной практики всегда составляет главное содержание эмпирической базыI любого монографического, в том числе диссертационного, научного исследования по любыIм проблемам уголовного и уголовно-процессуального права. При этом неважно, посвящено ли исследование досудебному [1, c. 29-31] или судебному производству по уголовны1м делам на любой его стадии [2, c. 64, 109, 198]. Критерием объективной правильности и эффективности всей правоприменительной деятельности по уголовному делу всегда будет движение конкретного дела или некоего множества сравнимых по какому-то признаку уголовныIх дел в разныIх судебных инстанциях. Обобщение судебной практики, в том числе практики Конституционного Суда РФ, позволяет выявить целые области очевидныIх пробелов в действующем законодательстве, ошибок в его реформировании, определить пути решения выIявленныIх проблем законотворчества и правоприменения [3, с. 42].
В теоретических исследованиях для обобщения судебной практики и анализа значения самих таких обобщений могут выIбираться настолько разные контексты1, что перечислить их хотя бы приблизительно не представляется возможныIм. Это и соотношение обеспечения единства судебной практики на всей территории России с принципом независимости судей и свободой судейского усмотрения при формировании правовой позиции по рассматриваемому делу [4, с. 12-13], и проблемы поддержания государственного обвинения в суде и отказа от него [5, с. 47-48], и вопрос о формировании новой парадигмы «судебного прецедента» как возможного источника права [6], зародившегося и развитого в англосаксонской (англо-американской) правовой семье, но с относительно недавних пор обретающего право на существование во многих странах континентально-европейской (романо-германской) правовой семьи. Это и проблема выIхода ВерховныIм Судом РФ за пределы своей компетенции, когда вместо толкования норм права, принятых законо-дательны1ми органами Российской Федерации или ее субъектов, Пленум осуществляет правотворческую деятельность, меняя содержание имеющихся правовых предписаний.
Скорее всего, вряд ли удастся назвать хоть какое-то направление уголовно-процессуальных исследований, пусть даже не посвященное прямо судебному производству по уголов-ныIм делам, в котором обобщение судебной практики не было бы основой эмпирической базыI. Обобщение судебной практики в необходимом конкретному исследователю аспекте требует достаточно глубокого теоретического обоснования. Подготовка индивидуальной авторской программы такого исследования -отдельное направление научной работы1. И наоборот: многие теоретические разработки настолько органично вошли в действующий закон и правоприменительную практику, что авторство их с течением времени утратилось и они воспринимаются всеми как нечто само собой разумеющееся. Именно это, как полагаем, можно считать самой ценной заслугой любого ученого.
Вопрос об использовании официальны I х обобщений судебной практики: примеры Iиз уголовныIх дел
Итак, судебную практику обобщать необходимо и обеспечивать единство ее на всей территории России тоже необходимо. Вопрос об использовании этих обобщений, особенно выIраженных в официальных документах верховных органов судебной власти, для формирования индивидуальной правовой позиции каждого судьи, рассматривающего конкретное уголовное дело, представляется куда более сложныIм, чем вопрос о том, нужны ли эти обобщения.
Внедрение в судебную практику официальных правовых позиций Верховного Суда РФ по общей логике принципов существования независимой судебной власти должно обеспечивать баланс между двумя в равной мере недопустимыIми крайностями, которые здесь обозначим двумя общеизвестныIми российскими идиомами: 1) «жираф большой -ему видней», то есть абсолютная зависимость от официальной позиции Верховного Суда РФ; 2) «что хочу, то и ворочу», то есть столь же абсолютная независимость от какого-либо внешнего мнения. Нельзя не заметить в связи со сказанны1м, что именно для постсоветского российского правосудия характерныI повышенные опасения официального руководства судебной системыI по поводу возможного избыточного распространения второй идиомы, тогда как реальная практика никак этих опасений не подкрепляет. Напротив, жизнь демонстрирует удивительную живучесть первого правила: стопроцентную ориентацию судей на официальную позицию выIшестоящих судов, и прежде всего, разумеется, Верховного Суда РФ.
В советские годыI разъяснения Пленума Верховного Суда СССР и РСФСР официально назывались «руководящими». С некоторых пор официально термин «руководящие разъяснения» был заменен на просто «разъяснения»।. Но существо от этого не изменилось: разъяснения Пленума Верховного Суда, будучи рекомендациями по сути, на практике воспринимаются исключительно как императивное требование. Это не плохо и не хорошо. Это российская реальность, которая постепенно стала получать распространение и в официальной риторике представителей судебной системыI.
Рассмотрим маленький фрагмент этой реальности на примере из личной адвокатской практики автора.
В октябре 2005 г. адвокатом-защитником было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении его подзащитного судом с участием присяжных заседателей. Это было дело о покушении на убийство инспектора рыбоохраныI при исполнении им служебных обязанностей. Позиция стороныI защитыI во многом основывалась на том, что потерпевший, имевший две неснятыIе и не- погашенные судимости - за получение взятки и за бандитизм, - а также стойкую репутацию мздоимца среди рыбаков и охотников, сам спровоцировал конфликт с не совместимыми со служебной деятельностью целями, в ходе которого и получил огнестрельное ранение, причиненное подсудимыIм. Личность потерпевшего, его криминальное прошлое, особенности поведения при исполнении служебных обязанностей и в общении с другими людьми - на это были рассчитаныI основныIе доводыI защитыI. Они-то и ставили под сомнение внешнюю картину случившегося, описанную в предъявленном и направленном в суд обвинении, фактическая фабула которого выIглядела так: государственныIй служащий, обязанныIй охранять природу, выIполняя свой служебный долг, пытался задержать браконьера, но тот применил огнестрельное оружие -охотничье ружье - и воспрепятствовал законной деятельности потерпевшего, причинил тяжкий вред его здоровью и лишь случайно не убил его.
22 ноября 2005 г. Пленум Верховного Суда РФ принял очень важное и долгожданное постановление о судебной практике рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, действующее до сих пор. В этом постановлении положение закона о том, что до сведения присяжных не доводится информация о прежней судимости и иные сведения, могущие вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого, дополнено несколькими внешне безобидныIми словами «и других участников процесса». Пленум Верховного Суда РФ очевидно выIшел за пределы[ своей компетенции, не истолковав уголовно-процессуальныIй закон, что он должен делать, а дополнив его. Дополнение это противоречит идее суда присяжных: мнение коллегии присяжных, выIраженное в вердикте, касается виновности подсудимого и должно быть не-предвзятыIм в отношении именно подсудимого. Других людей эта коллегия присяжных не судит, и мнение присяжных о других людях не имеет правового значения и не определяет дальнейшей судьбыI всех других людей, кроме подсудимого. При этом сведения о личности свидетелей и потерпевших могут иметь значение для оценки их показаний и для оценки случившегося.
По описанному делу результат вполне удовлетворил защиту. Вердикт присяжных -«виновен, но заслуживает снисхождения» - в совокупности с некоторыIми другими обстоятельства ; ми дела позволил суду назначить наказание ниже низшего предела, предусмо- тренного уголовны1м законом. Однако отдельные особенности рассмотрения этого дела в свете позиции Пленума Верховного Суда РФ оставили неприятныIй осадок. Так, когда один из свидетелей начал говорить о судимостях потерпевшего и о его поведении, председа-тельствуfющий прервал свидетеля, а когда тот попытался эмоционально отреагировать на это, его удалили из зала судебного заседания. Защитник в речи также был лишен возможности как-то характеризовать потерпевшего и был выIнужден обходиться абстрактны1ми намеками на то, что не все представители государства ведут себя на службе и в жизни так, как им предписано законом.
Полагаем, что на описанном примере следует подчеркнуть вовсе не тот факт, что Пленум Верховного Суда РФ иногда позволяет себе выIйти за рамки своих полномочий по официальному судебному толкованию закона, а рекомендательныIй характер его позиций. Судьи, рассматривающие конкретныIе уголовныIе дела, то есть отправляющие правосудие в собственном смысле этого слова, по закону не обязаныI следовать этим рекомендациям. Однако практика совсем не такова. Судьи в приговорах усиливают аргументацию своих выIводов и приводят номера пунктов постановлений Пленума Верховного Суда РФ и цитатыI из них, полагая, вероятно, что это избавляет их от изложения собственной аргументированной позиции по делу. На самом деле это совсем не так. Ориентация на позицию верховного органа судебной власти, основанную на обобщении большого массива уже рассмотренных уголовных дел, закономерна и вовсе непредосудительна, но от мотивирования собственных выIводов, основанных на исследовании обстоятельств конкретного дела в конкретном судебном заседании, такая ориентация точно не освобождает. Приведенное здесь недоразумение - очевидныIй выход Пленума Верховного Суда РФ за пределы[ компетенции по официальному толкованию закона - просуществовало в тексте постановления без малого 17 лет - до 28 июня 2022 г., когда отдельныIм постановлением Пленума от 28 июня 2022 г. № 22 были внесеныI редакционные изменения во многие пунктыI постановления 2005 г.
Обобщение судебной практики и предотвращение ошибок в правоприменении
Обобщения судебной практики тем не менее важныI сами по себе, независимо от того, выIраженыI ли они в специальных официальных документах органов судебной власти или предназначеныI исключительно для нужд по-выIшения квалификации судей и других практикующих юристов. Многие нестандартныIе ситуации, новые для большинства судей либо просто не получившие широкого распространения, требуют от судей столь же нестандарт-ныIх, эвристических подходов к их разрешению, на которые по определению способныI не все. Сдругой же стороныI, эта нестандартность не должна влечь за собой такого разнобоя в судебной практике, при котором за одни и те же преступные деяния будет заметно различаться ответственность в разных регионах такой большой страныI, как Россия.
Необходимость таких обобщений осознается, как правило, после выIявления многократно повторяющихся ошибок в правоприменении. И нет ничего удивительного в том, что многие частныIе вопросыI в такие обобщения нередко не попадают вовсе. Так, например, попытка выяснить с помощью изучения большого количества приговоров, по которыIм была назначена мера наказания ниже низшего предела, установленного уголовны1м законом, какие конкретные обстоятельства дел судьи считают достаточны1м основанием для применения этой мерыI, не дала сколько-нибудь понятных результатов. Среди такого рода обстоятельств в подавляющем большинстве случаев называются обычные смягчающие обстоятельства, прямо предусмотренные в законе. Найти что-либо «исключительное» среди этих обстоятельств не представилось возможныIм, хотя очевидно, что само это законоположение предусмотрено именно для исключительныIх случаев, нуждающихся в специальном описании и обосновании в тексте приговора. Столь же очевидной представляется недопустимость произвольного применения этой специфической уголовно-правовой льготы1.
Еще один пример очевидной потребности в масштабном обобщении судебной практики касается участия в производстве по уголовному делу переводчика. Участие переводчика [а точнее - наличие оснований для его участия в уголовных делах) в последние 30 лет перестало быть экзотикой: находящиеся на территории России иностранцыI, в том числе трудовыIе мигрантыI, нередко сами совершают преступления либо становятся их жертвами. Столь же привычныIм стал довод о неправильном или неполном переводе, либо об отсутствии переводчика, либо о непонимании подсудимыIм происходящего в суде ввиду незнания русского языка в жалобах на приговорыI, сначала только в кассационныIх, а в последние годыI-в апелляционных и кассационных. Понятно, что во многих, если не в большинстве случаев причиной появления такого довода в жалобе является вовсе не незнание осужденны1м языка судопроизводства и не плохая работа переводчика, а недовольство приговором. Основание для отменыI приговора достаточно надежное, а в случае отсутствия в процессе переводчика, когда его участие обязательно, и вовсе безусловное.
Интерес представляют наиболее часто встречающиеся аргументыI контрольных судебных инстанций в обоснование отклонения доводов заявителей жалоб, связанных с участием переводчика и качеством перевода. Они таковыI: «переводчик назначен постановлением следователя»।, что по контексту означает достаточныIе основания для привлечения к участию в деле именно этого переводчика, «в деле имеются документыI, подтверждающие компетентность переводчика», «подсудимый длительное время проживает в России», «подсудимый обучался в российском вузе», то есть не может не владеть русским языIком, и т. п. АргументыI, казалось бы, разныIе, но их объединяет одно: они никак не связаныI с поведением подсудимого в процедурах данного судебного разбирательства, действительны1м пониманием им происходящего и способностью полноценно в нем участвовать.
ОпределенныIй интерес представляет тот факт, что при регламентации предварительного расследования законодатель возложил на следователя обязанность удостовериться в компетентности переводчика, а аналогичная обязанность для судьи законом прямо не предусмотрена. Однако думается, что судья, несущий ответственность за законное судебное разбирательство, без всяких специальных указаний в законе удостоверится в компетентности всех лиц, причастных к обеспечению его законности и законности постановляемого по его результатам приговора. Именно поэтому ссылка на постановление следователя кажется наиболее грубой ошибкой из перечисленныIх. Что касается всего остального, то ни факт обучения в российском вузе, ни длительное проживание в России, ни что-то еще подобное не может убедить в понимании подсудимым происходящего в конкретном судебном разбирательстве. И диплом о филологическом образовании не гарантирует достаточно выIсокого уровня владения обоими языIками, необходимого для правильного перевода с одного языIка на другой и обратно. Убедить в адекватном восприятии и понимании подсудимыIм всего происходящего в зале судебного заседания может только документально подтвер-жденныIй постоянныIй вербальныIй контакт председательствующего с этим подсудимыIм. Благодаря обязательной сплошной аудиофиксации судебного заседания обеспечить документальное оформление такого контакта совсем не трудно. А вот в каких именно словах использовать такие возможности для опровержения доводов защитыI в жалобах на приговор - это вопрос для обобщения судебной практики. Такой опыт в России наверняка накоплен. Распространение его позволило бы многим судьям и первой, и выIшестоящих инстанций находить оптимальные решения при рассмотрении конкретных уголовных дел.
ПОДВЕДЕМ НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
-
1. Обобщения судебной практики необхо-димыI, они играют весьма важную роль в обеспечении единства судебной практики на территории всей страныI и в повышении уровня профессиональной квалификации всех практикующих юристов, причастных к судебной деятельности.
-
2. Результатыl официального обобщения судебной практики ВерховныIм Судом РФ в виде его правовых позиций имеютразъяснительны1й и рекомендательныIй характер, они не ограничивают независимость судьи при отправлении правосудия по конкретному уголовному делу, а лишь предлагают ориентирыI для возможного судейского усмотрения в сходных случаях. И степень сходности случаев, и возможность реализовать в них рекомендации Верховного Суда, равно как и оценка доказательств по конкретному уголовному делу, - предмет собственного мотивированного судейского усмотрения.
-
3. Судебной системе России и системе российского правосудия в самом выIсоком понимании этих слов объективно в равной мере нежелательныI и своевольныIе «раскольники» в судейских креслах, стремящиеся во что бы то ни стало настоять на своем, и безответст-венныIе «шестерни» судебного механизма, механически воспроизводящие волю выIшесто-ящих «начальников» от судебной системы1. РазумныIй баланс между этими крайностями обеспечивается благодаря обобщениям судебной практики и доведению их до сведения всего судейского корпуса в виде официальных решений органов судебной власти.
-
4. Обобщение судебной практики - особый вид профессиональной деятельности,
-
5. Отд ОтдельнымnjнаправлениемоСобобще судебной практики является постоянная ее диагностика на предмет выIявления наиболее актуальныIх частныIх материально-правовых и процессуально-правовых вопросов с целью выIявления типичных ошибок в правоприменении и выIработки оптимальных способов решения этих вопросов.
позволяющий преодолеть известныIй и широко обсуждаемый в юридическом сообществе разрыв между теорией и практикой в юриспруденции. Эта ставшая банальной идея присутствует почти всегда и на всех совместных мероприятиях ученых и практических работников и не пропадает со страниц юридической печати десятилетIиями. И если настойчивое повторение этой идеи - явление малоинтересное и бесперспективное, то обобщение судебной практики - надежный спо- соб превращения этой идеи в простую фигуру речи с одновременныIм взаимныIм обогащением и теории, и практики.
Список литературы Обобщение судебной практики: теоретический аспект
- Руднев В.И. Право на судебную защиту лиц, содержащихся под стражей : монография / В.И. Руднев. - Москва : Юрлитинформ, 2022. - 296 с.
- Багаутдинов Ф.Н. Новая кассация по уголовным делам / Ф.Н. Багаутдинов. - Казань: Изд-во Академии наук Республики Татарстан, 2021. - 264 с.
- Мядзилец О.А. Конституционные основы института возмещения вреда лицам, незаконно подвергнутым мерам процессуального принуждения при производстве по уголовному делу / О.А. Мядзилец // Российская юстиция. - 2022. - № 1. - С. 41-47.
- Бугрова Е.Г. Судебные правовые позиции в системе российского уголовно-процессуального права: понятие, суть, назначение : автореф. дис. … канд. юрид. наук :12.00.09 / Е.Г. Бугрова. - Нижний Новгород, 2021. - 33 с.
- Гизатуллин И.А. Отказ государственного обвинителя от обвинения в контексте обеспечения процессуальной свободы судьи / И.А. Гизатуллин // Правовое государство: теория и практика. - 2022. - № 1. - С. 42-59.
- Ильютченко Н.В. Авторитет судебной практики в уголовном процессе / Н.В. Ильютченко // Закон. - 2018. - № 3. URL: https://zakon.ru/publication/igzakon/7428.