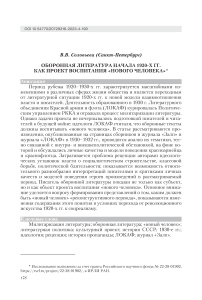Оборонная литература начала 1930-х гг. как проект воспитания «нового человека»
Автор: Соловьева В.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
Период рубежа 1920-1930-х гг. характеризуется масштабными изменениями в различных сферах жизни общества и является переходным от литературной ситуации 1920-х гг. к новой модели взаимоотношения власти и писателей. Деятельность образованного в 1930 г. Литературного объединения Красной армии и флота (ЛОКАФ) курировалась Политическим управлением РККА и отражала процесс милитаризации литературы. Однако задачи проекта не исчерпывались подготовкой писателей и читателей к будущей войне: идеологи ЛОКАФ считали, что оборонные тексты должны воспитывать «нового человека». В статье рассматриваются произведения, опубликованные на страницах сборников и журнала «Залп» и журнала «ЛОКАФ» в 1930-1932 гг., проводится анализ их тематики, тесно связанной с внутри- и внешнеполитической обстановкой, на фоне которой и обсуждались личные качества и модели поведения красноармейца и краснофлотца. Затрагивается проблема рецепции авторами идеологических установок власти о социалистическом строительстве, классовой борьбе, политической бдительности; показывается возможность относительного разнообразия интерпретаций писателями и критиками личных качеств и моделей поведения героев произведений в рассматриваемый период. Писатель оборонной литературы показан не только как субъект, но и как объект проекта воспитания «нового человека». Основное внимание уделяется вопросу формирования представлений о том, каким должен быть «новый человек» «реконструктивного периода», показываются изменения содержания этого понятия в условиях перехода от революционного искусства 1920-х гг. к соцреализму.
Милитаризация литературы, оборонная литература, «новый человек», литературная политика, культурный проект, история ссср, 1930-е гг, идеология, рецепция, история пропаганды, локаф, журнал «залп»
Короткий адрес: https://sciup.org/149144351
IDR: 149144351 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-190
Текст научной статьи Оборонная литература начала 1930-х гг. как проект воспитания «нового человека»
29 июля 1930 г. было создано Литературное объединение Красной армии и флота (ЛОКАФ), целью которого, согласно его Уставу, считалась «пропаганда в художественной форме задач обороны страны» [Сысоева 2022, 279]. Термин «оборонная литература» являлся самоназванием, используемым писателями и критиками этого объединения, которое куриро- валось Политическим управлением РККА. В 1932 г. после создания Оргкомитета Союза советских писателей произошла реорганизация ЛОКАФ в Оборонную комиссию Оргкомитета с фактическим сохранением прежних функций, что можно считать показателем востребованности данного проекта государством. Основными журналами, где публиковались «локафов-цы», были «Залп» в Ленинграде и «ЛОКАФ» в Москве.
Можно утверждать, что одной из основных задач культурного проекта оборонной литературы стало участие в воспитании «нового человека». Красная Армия рассматривалась идеологами ЛОКАФ (Н.Г. Свириным, Л.М. Субоц-ким, В.В. Вишневским и другими) в первую очередь как социальный институт, через который проходили массы крестьян и рабочих. Н.Г. Свирин предложил широкое понимание оборонного текста, согласно которому «всякое произведение, воспитывающее психику нового человека, бичующее старое, рабское отношение к труду, медлительность, расхлябанность, несообразительность, отсутствие инициативы, “авось да небось”, тем самым способствует воспитанию в трудящихся необходимых свойств современного бойца» [Свирин 1931, 15].
Важно подчеркнуть, что авторами оборонной литературы были не только профессиональные писатели, но и в значительной степени начинающие авторы, которых выдвигали литературные кружки, действовавшие в красноармейских частях и на флоте. Близость автора и адресата позволяла читателю включаться в процесс создания литературного произведения [Сысоева 2022, 270] и делала писателей не только создателями представлений о новом человеке, но и таким же объектом воспитания со стороны власти, реализовывавшимся через критиков.
Задача переделки сознания, поведения, образа жизни и всего облика человека была важной составляющей большевистского проекта с самого начала его существования [Поршнева 2017, 6]. На рубеже 1920–1930-х гг. переход от революционного искусства 1920-х гг. к соцреализму стал процессом переформулирования контура проекта «новый человек» [Круглова 2005, 96]. Переходность является важной характеристикой данного периода, исторически совпадающего с эпохой «великого перелома»: «он уже не вполне принадлежит к 1920-м, но еще не совсем принадлежит и к 1930-м» [Добрен-ко 2011, 145]. Преобразования в сфере культуры свидетельствовали об усилении государственного контроля и идеологических изменениях, к середине 1930-х гг. приведших к «идеологическому повороту» – отказу от наиболее радикальных культурных установок в пользу более консервативных.
Оборонная литература возникла на волне роста «мобилизационных настроений», произошедшего во время «военной тревоги» 1927 г. и усилившегося в 1929–1931 гг. на фоне конфликта с Китаем, а также «Шахтинского дела» и «Дела Промпартии», где центральным пунктом обвинений была подготовка интервенции против СССР силами остатков белых армий и внутренних антисоветских организаций при поддержке Франции, Англии, Польши, Румынии и прибалтийских государств [Хлевнюк 2010, 56]. На смену эпохе нэпа пришел военизированный дух первой пятилетки, снова делавшей акцент на прорыве и утопии, сопровождавших идею воспитания нового человека [Кур-Королев 2011, 375].
Анализ тематики произведений, опубликованных в сборнике и журнале «Залп» в 1930–1932 гг. показывает, что, несмотря на острую внутри и внешнеполитическую обстановку, в них преобладали публикации, связанные с повседневностью Красной армии и Красного флота (проведение маневров, обучение стрельбе и т.п.). Наиболее актуальными социальными вопросами, на фоне которых обсуждались личные качества и модели поведения красноармейца, были темы коллективизации и раскулачивания. В произведениях оборонной литературы показывалось, во-первых, формирование образа красноармейца как носителя политики коллективизации, который должен был вести разъяснительную работу с родными из деревни в пользу колхозов, участвовать в создании колхозов в приграничных районах. Предполагалось, что демобилизованные красноармейцы будут «руководить колхозами, отдельными отраслями работы в них, обслуживать тракторы, комбайны, сложные сельскохозяйственные машины и быть передовыми борцами за превращение простейших колхозов в высшие формы» [Тархова 2010, 228]. Во-вторых, шла речь о выявлении классовых врагов (в первую очередь, «кулаков»), т.е. о воспитании политической «бдительности». В директиве Политического Управления РККА от 12 декабря 1929 г. указывалось, что «обострение классовой борьбы в стране требует неусыпной пролетарской бдительности в казарме» [цит. по: Тархова 2010, 121]. Довольно часто герой произведения оказывался в ситуации выбора, например, между «старым» (неправильным, ошибочным) и «новым» (соответствующим ценностям эпохи).
Об активном участии красноармейцев в создании колхозов говорится в рассказе «Первый договор» В. Ганибесова [Ганибесов 1931]. Один взвод красноармейцев вызывает на социалистическое соревнование два других, давая обязательство «организовать красноармейскую коммуну», «прорабатывать разъяснения родным через письма», «вовлекать свои хозяйства в деревенские колхозы». ПУ РККА действительно уделяло внимание работе с «письмами из деревни» по поводу коллективизации, однако практика написания коллективных писем из армии в деревни в итоге была признана неэффективной по сравнению с индивидуальными письмами [Тархова 2010, 235].
Ответственности красноармейца за «политическое» поведение своих родных посвящен рассказ К. Вихрова «Деревня ждет» [Вихров 1930]. Командующий взводом Крылов с неохотой пишет письма в деревню, потому что «время выпололо из головы все деревенские корешки», несмотря на призыв со стороны жены вспомнить о лозунге «лицом к деревне» и о коллективизации. В результате в партийную организацию полка приходит письмо с информацией, что родители Крылова «хоть и середняки, но во всех мероприятиях Советской власти в деревне идут против, вместе с кулаками, и все время также настраивают и других», а Крылов «против такого положения никаких мер не принимал». В конце рассказа ответственный секретарь, «участливо посмотрев на Крылова», говорит, что ему нужно «настегать по первое число». Таким образом, у героя остается возможность для исправления ситуации. Рассказ вышел примерно в одно время со статьей в «Красной звезде» [Мы больше вам не сыновья… 1930], где, несмотря на безапелляционное название, отказ от кровных уз называется скорее редким «промахом» и, напротив, утверждается, что в большинстве случаев красноармейцам удается убедить своих родных в правильности политики партии.
Установку, как реагировать на противоречивую информацию и вести себя в ситуации выбора, дает рассказ П. Головача с недвусмысленным названием «Кара» [Головач 1931]. Красноармеец получает письмо из дома о том, что его семью заставляют вступать в колхоз, отобрали последнюю корову и задавили налогами. Лекция на данную тему в части не развеивает его сомнений, и он отправляется домой «проверить факты». Письмо оказывается подложным, герой возвращается в часть, но товарищи, охладев к нему из-за совершенного им дезертирского поступка, решают не пускать его обратно. Несмотря на осознание героем своей вины, отношение к нему не смягчается. После разговора с политруком, судьба красноармейца должна решиться на общем собрании. Таким образом, вероятно, посылом рассказа можно считать призыв не верить всему, что сообщают из деревень и предостережение от нарушения воинских обязанностей.
Как правило, оценка поступка красноармейца дается через слова партийного работника или командира, но окончательная оценка остается за собранием / судом / трибуналом. Например, рассказ Д. Лина «Последнее слово» [Лин 1930] построен в форме речи героя на суде. Командир небольшого красноармейского отряда без санкций сверху жестоко расправляется с «кулацким» восстанием, однако вины за собой не видит. Критик оценил это как оправдание «революционной целесообразностью» и назвал достижением автора, «не убоявшегося противоречий создавшейся обстановки» [Мессер 1931, 153]. В рассказе Б. Михалевича «Когда позовет Реввоенсовет» [Михалевич 1930] красноармеец Кучерявый разоблачает красноармейца Лугина в том, что тот сын кулака, «купивший карьеру за полтора рубля», потраченные на изменение фамилии в загсе. Несмотря на убеждения Луги-на, что он не такой, как отец, Кучерявый все же обнаруживает его подлинную сущность и получает благодарность в приказе по полку. Финальная его фраза – «я должен был начать эту работу. Кончит ее революционный трибунал». В рассказе С. Галышева «Две дружбы» [Галышев 1932] «классовый враг» Базаров проникает в Красную армию, чтобы его «кулацкую» семью не тронули, как семью красноармейца, но также оказывается разоблачен.
Разбирая рассказы, посвященные «отражению классовой борьбы в казарме», критики предостерегали авторов от занятия «незаинтересованной» позиции [Мессер 1931, 152], то есть не выявленного четкого отношения автора к «классовому врагу», как, например, в рассказе С. Михайлова «Выход из боя» (автор оставлял финал открытым и предлагал читателям самим решить, что сделать с обнаруженным врагом) [см.: Сысоева, 2022, 270–274]. В то же время требовалось показывать сложность перевоспитания, избегать противопоставления «абсолютно плохого абсолютно хорошему» [Мессер 1931, 146–155], чтобы сделать произведение более достоверным и убедительным.
В воспитании советского человека важную роль должен был играть коллектив. Так, возможность принятия неоднозначного персонажа показана в рассказе Н. Москвина «Двое» [Москвин 1932], где красноармеец Семен Сарычев делает выбор между двумя мирами – старым, дореволюционным, в котором его идеалом был офицер со всеми внешними атрибутами, и новым, советским. В результате, прочитав заметку в газете и узнав, что его «идеал» оказался вредителем, Семен осознает ошибку и выбирает товарищей-красноармейцев. Необходимость подобного выбора в более широком идеологическом контексте подкреплялась высказываниями о противостоянии двух лагерей, дискуссии о попутчиках и союзниках в литературе и т.п. Важно, что в этом рассказе сослуживцы чувствуют ответственность за сомневающегося и их неравнодушие становится одним из решающих факторов. Принимают как своего, несмотря на социально сомнительное происхождение, и героя рассказа «Выздоровел» [Сидорин 1932], после того как он героически задерживает нарушителя границы.
Красноармеец должен был демонстрировать постоянный «рост» над собой, преодоление «ошибок», устранение «прорывов». Например, рассказ Н. Сиденькова «“Гробы” воскресли» [Сиденьков 1930] посвящен проблеме плохих показателей в стрельбе и ее преодоления, которое достигается за счет самодисциплины и тренировок. В рассказе А. Бобунова дивизия принимает самостоятельное решение помочь «ликвидировать прорыв» на строительстве завода [Бобунов 1931]. Красноармейцы отказываются от денег, но просят руководство завода помочь им в ответ со строительством клуба. Показано, как командир наблюдает со стороны за обсуждениями красноармейцев и радуется их «росту».
Именно политическая сознательность является высшим показателем становления «нового человека». В рассказе И. Чибисова «Повесть о “стрелке”» показана эволюция корреспондентов армейской газеты, которые начинают свою работу с очерков о бытовых трудностях (решают проблему «потертости ног»), затем переходят к критике командиров, а в итоге разоблачают в «уклоне» политрука, что равняется прохождению «экзамена на политическую зрелость» [Чибисов 1931].
Воспитание «нового человека» шло и через формирование новых бытовых привычек, правил гигиены («как вставать, как мыться, как складывать брюки»); культурного поведения («я стал необыкновенно вежлив, и чего раньше никогда не делал, уступил место в трамвае какой-то полустарушке – красноармеец ведь!» [Бродский 1931]).
Приведенные примеры показывают, что проект оборонной литературы в значительной степени носил воспитательный характер, показывая читателям «правильные» модели поведения. Основными качествами, которые должен был развить в себе красноармеец, согласно рассмотренным рассказам, были сознательность (т.е. умение разбираться в окружающей действительности), бдительность по отношению к вылазкам классовых врагов, способность к самодисциплине для преодоления трудностей и собственных недостатков, готовность участвовать в «социалистическом строительстве», дисциплинированность по отношению к нормам и правилам армейской службы.
Важную роль в становлении нового человека играл коллектив, однако, одновременно можно отметить значимость индивидуального выбора и индивидуализацию ответственности за ошибки. Рассмотренные произведения демонстрируют относительную терпимость к недостаточно «сознательным» персонажам, так как им дается шанс на исправление. В то же время гораздо меньше терпимости проявляется к военным проступкам (оставление части и т.п.), в этом случае персонажа, как правило, ждет социальное отчуждение, и его судьба выносится на суд (остается открытой). «Правильная» идеологическая позиция, как правило, транслировалась в произведениях через партийных работников.
Оборонные тексты начала 1930-х гг. носят черты переходности, когда оказывается возможным относительное разнообразие интерпретаций. С одной стороны, герои обладают достаточно широким пространством для действий и развития, более характерным для представлений о «новом человеке» 1920-х гг. [см.: Кур-Королев 2011, 376–377]. С другой стороны, апелляция к дисциплине, более иерархическим отношениям, контролю и соответствию нормам в большей степени присущи эпохе 1930-х гг.
«Воспитательное значение» проект имел и для писателей, которые, в преддверии возможной будущей войны должны были таким образом научиться писать «идеологически верные» и «военно-грамотные» произведения. Наряду с показом сложности процессов воспитания нового человека, от авторов требовалось и определение четкой собственной позиции по рассматриваемым проблемам.
Тексты оборонной литературы 1930–1932 гг. являются частью общей картины идеологизации культуры в широком ее понимании. На страницах оборонных журналов шло формирование представления о том, каким должен быть «новый человек» в условиях перехода от нэпа к «социалистической индустриализации». Авторы и критики вели совместную работу по совершенствованию сюжетов и проработке художественных образов, опираясь на свое понимание идеологических установок власти.
Список литературы Оборонная литература начала 1930-х гг. как проект воспитания «нового человека»
- Бобунов А. Дивизия на тракторном // ЛОКАФ. 1931. № 5-6. С. 119-128.
- Бродский Р. Карантин // Залп. 1931. № 2. С. 14-23.
- Вихров К. Деревня ждет // Залп. 1930. № 3. С. 14-19.
- Галышев С. Две дружбы // Залп. 1932. № 2. С. 9-16.
- Ганибесов В. Первый договор // Залп. 1931. № 1. С. 2-8.
- Головач П. Кара // ЛОКАФ. 1931. № 7. С. 82-88.
- Добренко Е.А. Становление института советской литературной критики в эпоху культурной революции: 1928-1932 // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпоха / под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 142-206.
- Круглова Т.А. Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма. Екатеринбург: Издательство Гуманитарного университета, 2005. 384 с.
- Кур-Королев К. Новый человек, или социальная инженерия при сталинизме: некролог по мечтам о новом человеке // История сталинизма: итоги и проблемы изучения. М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. С. 372-377.
- Лин Д. Последнее слово // Залп. 1930. № 3. С. 30-34.
- Мессер Р. Творческие кадры ЛОКАФ // ЛОКАФ. 1931. № 3. С. 146-155.
- Михалевич Б. Когда позовет Реввоенсовет // Залп. 1930. № 3. С. 5-11.
- Москвин Н. Двое // ЛОКАФ. 1932. № 2. С. 35-47.
- Мы больше вам не сыновья, а вы нам не отцы // Красная звезда. 1930. 17 янв. (№ 14(2293)). С. 2.
- Поршнева О.С. Новый человек как компонент революционного советского проекта: ключевые проблемы изучения в современной историографии // Эпоха социалистической реконструкции: идеи, мифы и программы социальных преобразований. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. С. 6-18.
- Свирин Н.Г. Литература и война. Сборник критических статей. Л.: ГИХЛ, 1931. 150 с.
- Сиденьков Н. «Гробы» воскресли // Залп. 1930. № 1. С. 7-13.
- Сидорин И. Выздоровел // ЛОКАФ. 1932. № 1. С. 44-59.
- Сысоева А.В. Журнал «Залп» как инструмент поддержания и формирования оборонной литературы // Studia Litterarum. 2022. Т. 7. № 3. С. 258-279.
- Тархова Н.С. Красная армия и сталинская коллективизация. 1928-1933 гг. М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. 375 с.
- Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010. 480 с.
- Чибисов И. Повесть о «стрелке» // ЛОКАФ. 1931. № 1. С. 116-134.