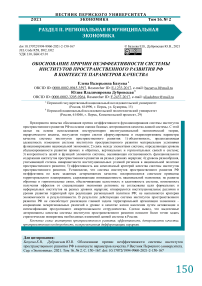Обоснование причин неэффективности системы институтов пространственного развития РФ в контексте параметров качества
Автор: Базуева Е.В., Дубровская Ю.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu
Рубрика: Региональная и отраслевая экономика
Статья в выпуске: 2 т.16, 2021 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка обоснования причин неэффективности функционирования системы институтов пространственного развития РФ на основе оценки базовых детерминантов качества данной системы. С этой целью на основе использования инструментария институциональной экономической теории, иерархического анализа, постулатов теории систем сформулированы и охарактеризованы параметры качества системы институтов пространственного развития: 1) объективность, предполагающая адекватность изменения системы институтов пространственного развития материальным условиями функционирования национальной экономики; 2) связь между элементами системы, определяющая уровень сбалансированности развития прямых и обратных, вертикальных и горизонтальных связей в системе; 3) когерентность целей и функций элементов системы, оценивающая согласованность функционального содержания институтов пространственного развития на разных уровнях иерархии; 4) уровень разнообразия, учитывающий степень инвариантности институциональных условий регионов в национальной политике пространственного развития; 5) эффективность как комплексный критерий качества системы институтов пространственного развития. Установлено, что система институтов пространственного развития РФ неэффективна по всем заданным детерминантам качества: воспроизводятся советские принципы территориального планирования, сдерживающие инновационность национальной экономики; не развиты обратные и горизонтальные связи, обеспечивающие целостность и адаптивность системы, возможность получения эффектов от специализации экономики регионов; не согласованы цели формальных и неформальных институтов на разных уровнях иерархии; игнорируются институциональные различия и уровни развития территорий при реализации региональной политики РФ; не выполняются критерии экономичности и результативности. В результате действующая система институтов пространственного развития РФ не способствует реализации главной задачи территориальной организации экономики - сокращению межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения путем активизации и интенсификации продуктивного межрегионального сотрудничества. Сделан вывод, что выделенные детерминанты качества системы институтов пространственного развития позволят более точно задать стратегические императивы необходимых изменений данной системы в России.
Институты пространственного развития, эффективность, детерминанты качества, пространственная неоднородность, межрегиональная дифференциация, иерархия
Короткий адрес: https://sciup.org/147246836
IDR: 147246836 | УДК: 330 | DOI: 10.17072/1994-9960-2021-2-150-167
Текст научной статьи Обоснование причин неэффективности системы институтов пространственного развития РФ в контексте параметров качества
В настоящее время все чаще предметом экономических исследований становятся проблемы усиления пространственной дифференциации в разви- тии национальных и региональных социально-экономических систем. Исследователи обращают внимание на большой спектр последствий такого неэффективного пространственного развития: увеличение неравномерности распределения показателей занятости, производительности труда, дифференциации доходов населения, усиление неравенства возможностей в реализации и отдаче от капитала образования [1], рост уровня социальной маргинализации населения [2], социальной напряженности [3], повышение угроз национальной безопасности [4]. Ряд исследователей рассматривают последствия игнорирования про- странственного фактора в качестве причины неэффективности функционирования национальных социально-экономических систем в целом [5-7].
Выделяют разные причины усиления межрегиональной дифференциации в развитии национальных и региональных социально-экономических систем, среди которых в современных исследованиях все больше внимания уделяется вкладу институтов в процесс увеличения дивергенции развития национальных и региональных социальноэкономических систем.
Так, Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон с помощью инструментария экономико-математического моделирования обосновывают большую значимость вклада институциональных факторов по сравнению с географическими и демографическими (плотность населения и степень урбанизации территории) в процесс увеличения дивергенции развития стран [8] . Подобные результаты относительно значимости институтов в уровне развития городов и регионов Европы получены [1; 9] . При этом для исследования различных отклонений в реализации теоретических постулатов пространственной экономики в практической деятельности, т.е. фактически неэффективности институтов пространственного развития (уточнение наше. – Е.Б., Ю.Д .), S. lammarino, A. Rodriguez-Pose , M. Storper используют термин «пространственные ловушки» ( spatial traps ). Однако теоретическое обоснование возникновения феномена пространственных ловушек с использованием инструментария институциональной экономической теории не стало предметом анализа авторов.
Среди российских ученых также многие акцентируют внимание на институциональных причинах неэффективности пространственного развития России [см., например, 10]1, предлагается использовать категориальный аппарат институциональной экономической теории для исследования процессов пространственной дифференциации.
К примеру, Р.М. Нижегородцев, исходя из последствий территориальной дифференциации, которая «по уровню социальноэкономического развития, хотя и создает условия для дальнейшего воспроизводства этого процесса, но в то же время подрывает, исчерпывает предпосылки этого воспроизводства» [11, с. 8] предлагает рассматривать территориальную дифференциацию как институциональную ловушку.
Е.С. Куценко использовал термин зависимости от предшествующего развития (path dependence ) при описании процессов инерции в размещении производительных сил в регионах России [12, с. 10, 13] .
Как показал наш анализ, несмотря на актуализацию роли институтов в формировании и усилении неравенства в развитии национальных и региональных социальноэкономических систем, инструментарий институциональной экономической теории используется фрагментарно и ее методология не становится определяющей в исследованиях.
Кроме того, как справедливо заметили А.Х. Алонсо и К. Гарсимартин, «не достаточно признать, что институты имеют значение. Необходимо также определить детерминанты качества институтов. Это важная задача, для того чтобы проводить политику, направленную на улучшение институтов» [13]. В связи с этим считаем, что определение на основе использования инструментария институциональной экономической теории базовых детерминантов качества институтов пространственного развития позволит по-новому взглянуть на проблемы межрегиональной дифференциации и выявить природу возникновения данного вида дисфункциональности системы.
Исходя из вышесказанного, целью данной статьи является применение инструментария институциональной экономической теории для исследования проблем снижения эффективности функционирования системы институтов пространственного развития в РФ в контексте заданных параметров качества данной системы1.
Для реализации поставленной цели необходимо обозначить методологические основания исследуемой реальности, позволяющие выработать принципы соотношения различных научных методов для организации исследования системы институтов пространственного развития.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ИНСТИТУТОВ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Кратко обозначим основные параметры исследования. Заметим, что рассмотрение теоретических вопросов изучения системы институтов пространственного развития, включающих в том числе характеристику ее структурных элементов и их функциональное наполнение, не входит в предметное поле данной статьи.
Во-первых, исходя из большого количества сложившихся на данный момент подходов к трактовке базовой категории институциональной экономической теории, считаем необходимым уточнить, что мы придерживаемся точки зрения представителей старого институционализма в аспекте необходимости подчеркивания объективной природы института [16–18]. Это предполагает, что институты формируются под влиянием материальных (хозяйственных) условий социальноэкономической системы, упорядочивая возможность осуществления экономическими агентами определенных видов деятельности в рамках этого хозяйственного порядка.
Во-вторых, существует также обратная связь между социально-экономической системой и системой институтов [см. об этом, например, 19]. Это означает, что в случае формирования системы институтов пространственного развития без учета материальных условий хозяйствования и социального устройства общества будет снижаться эффективность функционирования социально-экономической системы в целом [20, с. 74–75].
В-третьих, данная система институтов анализируется с использованием постулатов системного подхода, предполагающего, что целостность и адаптивность системы к изменениям обеспечивают наличие прямых, обратных и горизонтальных связей между ее элементами. Вертикальные связи являются системообразующими, позволяют закрепить функциональное содержание структурных элементов институциональной иерархии. Горизонтальные связи обеспечивают внутреннюю интегрированность институциональных структур, способность к институциональному управлению процессами пространственного развития на основе интенсификации экономического взаимодействия локальных территорий [21, с. 53].
В-четвертых, использование инструментария иерархического подхода к анализу системы институтов пространственного развития позволяет учесть наличие таких важных свойств экономического пространства, как «иерархичность и неоднородность» [22, с. 11]. В этом случае акцентируется внимание на отдельных частях данной системы, разнородности взаимодействующих в ней субъектов, которые находятся в тесной взаимосвязи с друг другом и развиваются вместе с системой институтов в целом. Каждый элемент данной иерархической системы испытывает влияние других элементов, изменяя свое функциональное содержание. При этом управляющая система может находиться с объектом управления на разных уровнях иерархии. Следовательно, в иерархической системе труднее сформулировать однозначные цели управления, поэтому возникает проблема сбалансированного развития всех уровней иерархии [23, с. 31–33]. Применительно к нашему объекту исследования это предполагает, что функциональное наполнение института каждого уровня иерархии должно совпадать между собой, сформировав согласованные усилия в достижении единой цели конвергентного солидарного связанного пространственного развития.
В-пятых, синтез инструментария институциональной теории, иерархического ана- лиза и системного подхода сформировал в качестве одной из методологических предпосылок исследования системы институтов пространственного развития необходимость учета степени соответствия сложности принятия решений на более высоком уровне иерархии инвариантному многообразию поведения подсистем ее нижних уровней. Иными словами, при проектировании институтов пространственного развития на национальном уровне целесообразно учитывать разные институциональные условия и уровень развития регионов РФ. В этом случае снижается вероятность возникновения различных проблем функционирования всей системы институтов в виде институционального конфликта с действующей системой институтов, эффекта блокировки, проявления оппортунизма и т. д.
В-шестых, в понимании категории эффективности системы институтов пространственного развития мы исходим из широкого подхода к ее трактованию, распространенному в современной науке. Данный подход предполагает, что эффективность синтезирует три категории экономической науки: экономичность, результативность и качество. Это соответствует параметрам сложных са-моразвивающихся систем, для которых определяющим признаком эволюции выступает качественное развитие, характеризующееся количественной определенностью [24].
Используем далее обозначенные выше методологические предпосылки для выявления проблем снижения эффективности функционирования системы институтов пространственного развития в РФ в контексте заданных параметров качества данной системы.
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ИНСТИТУТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РФ В КОНТЕКСТЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА
Предполагается, что выделенные в данном разделе параметры качества должны рассматриваться в единстве для обеспечения эффективности всей системы институтов пространственного развития. Их содержание раскрывает качество выполнения данной системой заданных функций, т. е. фактически характеризует эффективность ее функционирования как системы в целом. Начнем с рассмотрения объективных основ формирования неэффективности современной системы институтов пространственного развития РФ.
Адекватность изменения системы институтов пространственного развития материальным условиям функционирования национальной экономики (параметр – объективность)
Действующая система институтов пространственного развития, несмотря на переход к рыночным условиям хозяйствования, сохраняет некоторые элементы, сформированные в советский период развития нашей страны. К таким элементам, на наш взгляд, можно отнести сохранение советских принципов территориального планирования (однопрофильность и ресурсоориентированность)1. Ресур-соориентированность предполагала планомерное насаждение промышленности на окраинах путем переноса фабрик к источникам сырья с целью последовательной ликвидации всех остатков национального неравенства во всех отраслях общественной и хозяйственной жизни [27, с. 103–104]. Обязательным условием при принятии решения о развертывании производственных процессов в экономическом районе было сочетание «первичных форм сырья» с наличием источников получения энергии в экономическом районе и возможности их комплексного использования [28, с. 261. Цит. по: 26, с. 6].
Следовательно, главными факторами при определении границ экономических районов были природа и экономика. Как справедливо подчеркивает В.Л. Глазычев, социальнодемографический компонент программирования был проигнорирован в ГОЭЛРО, что объяснимо не только общим контекстом эпохи «военного коммунизма», но и оправданной тогда, хотя и наивной, уверенностью в неисчерпаемости демографических ресурсов России [29]. Кроме того, при размещении крупных предприятий не учитывались размеры и социальные параметры городских хозяйств, важность развития соответствующей инфраструктуры, антропогенная нагрузка на окружающую среду [26, с. 8].
Как показывают результаты исследований, развитие регионов России продолжает основываться на факторах первой природы: обеспеченность природными ресурсами и географическое положение [30]. При этом нельзя не согласиться с выводами ряда исследований, доказавших, что инновационные источники роста не могут возникнуть безосновательно. Они объективно формируются на основе имеющихся в регионе промышленных взаимосвязей и комплексов, определяющих новые возможности и новые отрасли развития экономики [31]. Вместе с тем современные факторы пространственного развития, к которым относят конкурентные преимущества, созданные деятельностью человека и общества, продолжают недооцениваться при территориальном планировании национальной экономики [см. подробнее: 32].
Вторым советским принципом территориального планирования, который также воспроизводится в современной России, является однопрофильность. Известно, что методология составления плана ГОЭЛРО опиралась на принцип выделения основного звена в структуре экономики региона. Специализация экономики региона закреплялась с целью соблюдения необходимой пропорциональности развития национальной экономики в целом за счет обеспечения одинаковых темпов роста всех отраслей [33, с. 12; 26]. Данный принцип сохранен и при определении современных приоритетов пространственного развития РФ1.
Преемственность выделенных выше советских принципов экономического районирования при определении границ макрорегионов (федеральных округов) подчеркивается многими исследователями [см. например, 34], которые обращают внимание, что это является одной из основных причин не- оптимальности пространственного развития современной российской экономики [26; 29; 35; 36].
Подчеркнем, что большая часть кластеров, функционирующих в настоящее время, также была сформирована централизованно, в рамках ведущей отрасли региональной экономики, учитывающей специализацию территории размещения [см. подробнее: 37].
В этой связи обратим внимание на бесперспективность пролонгации данного принципа в условиях современной экономики, так как однопрофильность может стать сдерживающим фактором инновационного развития национальной экономики. Так, на примере регионов Китая Sh. Zhu , C. Hey , Y. Zhou было доказано, что возможности развития территории не должны ограничиваться существующей отраслевой структурой экономики, поскольку инновационное развитие возможно только на основе развития новых отраслей, т.е. диверсификации экономики региона [38]. Не случайно, еще в 2007 г. была введена концепция «продуктового пространства» ( The Product Space ), обусловливающая необходимость комплексности производственной структуры страны [39]. Эмпирически учеными было доказано, что уровень ее разнообразия определяет более высокий уровень развития страны.
Подобные выводы на примере восточных и западных регионов России были получены Е.А. Коломак. Кроме того, автором акцентировано внимание на том, что ресурсоориентированная экономика, доминирующая в восточных регионах, также менее чувствительна к диверсификации [40, с. 143].
Исходя из вышесказанного, очевидна необходимость трансформации существующих инструментов экономического районирования для решения разнохарактерных задач развития рыночных отношений, соответствующих современным мировым тенденциям и реалиям мирового развития.
Определение уровня сбалансированности развития вертикальных и горизонтальных связей в системе институтов пространственного развития (параметр – связи между элементами системы)
В настоящее время многими исследователями подчеркивается, что для системы институтов пространственного развития характерно развитие только прямых связей, позволяющих выстроить соподчиненность ее уровней.
Различные инструменты пространственного развития, нацеленные на развитие территорий и снижение их неоднородности, выстроенные только по данному принципу («сверху»), показывали свою неэффективность. Одним из последних таких инструментов пространственного развития стали макрорегионы, структура которых утверждена Правительством РФ в феврале 2019 г. в рамках принятой Стратегии пространственного развития РФ до 2025 г.1 При этом учеными подчеркивается, что формирование макрорегионов «сверху» эффективно только для реализации федеральной региональной политики, тогда как для развития межрегионального сотрудничества, указанного в качестве основного стратегического приоритета пространственного развития РФ до 2025 г., макрорегионы должны формироваться «снизу» [41]. В этом случае в большей степени будут учтены интересы каждого субъекта взаимодействия.
В настоящее время горизонтальные связи в системе институтов пространственного развития выстроены только в двух крупнейших агломерациях страны. Сложившиеся тренды, подчеркивает Н.В. Зубаревич, усиливают объективные барьеры пространственного развития [42, с. 55].
Не случайно, развитие обратных и горизонтальных связей является одной из целей развитых стран на современном этапе развития. Более того, опыт развитых стран показывает, что развитая система горизонтального управления в реализации европейской региональной политики и ее органов управления с активным участием предприятий, населения и институтов гражданского общества (обратные связи), обеспечивающим возможность влияния на стратегии регионального развития и формирование своих стратегий в собственных секторах и сфе- рах, является одним из факторов сокращения пространственной дифференциации [43, с. 20–21]. Кроме того, только в условиях развитых горизонтальных и межсистемных связей возможно получение эффектов от специализации экономики регионов, сформировавшейся в советский период развития нашей страны и воспроизводящейся, как было показано нами выше, на современном этапе ее развития.
Оценка согласованности функционального содержания институтов пространственного развития на разных уровнях иерархии (параметр – когерентность целей и функций элементов системы)
В качестве единой цели системы институтов пространственного развития в РФ в Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г. определено: обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны. При этом под пространственным развитием законодателем понимается «совершенствование системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной государственной политики регионального развития»2. Таким образом, принимая во внимание тот факт, что система расселения включает отдельных индивидов, а организация экономики – хозяйствующих субъектов, можно объективно заключить, что элементами системы пространственной организации экономики является вся совокупность субъектов различных иерархических уровней – от нано- до мегауровня. Это обусловливает высокий уровень сложности пространственной организации и пространственных взаимодействий в современной экономике.
В настоящее время для системы институтов пространственного развития, как отмечают многие исследователи, характерна некогерентность как интересов, так и, соот- ветственно, целей между различными уровнями иерархии. К примеру, Т.А. Пестерева акцентирует внимание на разнородности и разнонаправленности целей административно-территориального деления (федеральные округа) и экономического районирования (макроэкономические регионы) единой территории России [44]. Проблемы несогласованности интересов и целей институтов федеральных органов власти и местного самоуправления рассмотрены в [35]1.
Разделяя мнение П.А. Минакира и А.Н. Демьяненко, считаем, что оптимальный «институциональный баланс» (в терминах C.Г. Кирдиной) для гармонизации интересов субъектов экономики различных иерархических уровней может быть сформирован при доминирующей роли хозяйствующих субъектов [22, с. 23] при наращивании потенциала межуровневых взаимодействий [45, с. 646] . В целом это позволит обеспечить большую комплементарность системы формальных и неформальных институтов пространственного развития на разных уровнях иерархии и повысить эффективность данной системы.
Степень учета инвариантности институциональных условий регионов в национальной политике пространственного развития (параметр – уровень разнообразия)
В настоящее время многие исследователи акцентируют внимание на необходимости учета структурного разнообразия в аспекте оценки и возможности сокращения «пространственной неравномерности» развития экономики России, поскольку «найти различия проще, когда единицы наблюдения малы, чем среди крупных, где различия стираются. Агрегирование ведет к потере информации о контрастах пространства» [46, с. 19] .
Спектр выделенных негативных последствий перманентного воспроизводства усредненного подхода в современной государственной региональной политике России, не учитывающего различия в уровне развития и особенностях институциональных условий в регионах РФ, достаточно широк.
Так, применение единых критериев к оценке эффективности деятельности субфедеральных органов власти2 и к отбору заявок на различные формы финансовой федеральной поддержки усиливает дифференциацию и неоднородность пространственного развития. Например, «средства на стимулирование региона к экономическому развитию» в виде грантов выделяются субъектам РФ, достигшим наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти. В результате укрепляются конкурентные позиции заведомо сильных регионов, поскольку согласно порядку распределения грантов распределение средств производится на основе итогового рейтинга между субъектами РФ, занявшими с 1-го по 50-е места рейтинга.
Спонтанность процесса стратегирования без учета проблем, особенностей и конкурентных преимуществ регионов со слабым аналитическим обоснованием выбранных приоритетов и отсутствием конкретных проектов [см. подробнее: 47] приводит к принятию однотипных стратегий развития регионов, декларативный характер которых, с одной стороны, не обеспечивает достижение целевых индикаторов развития, с другой – ограничивает получение государственных инвестиций в полном объеме.
Унификация норм и правил пространственного обустройства страны в части административно-территориального деления путем формирования макрорегионов не решает, как показала проведенная нами оценка, возложенной на них задачи снижения пространственной неоднородности путем интенсификации межрегионального сотрудничества [48]. Отчасти это связано с нерешенностью вопросов управления макрорегионами, что подтверждается рядом исследований [49–51]. В качестве решения проблемы предлагается отказ от единой универсальной структуры макрорегионов в пользу нескольких отраслевых. Как отмечает О.В. Кузнецова, «исходя из того, что для разных сфер деятельности оптимальными оказываются разные по масштабам и конфигурации макрорегионы, их отраслевых сеток в стране может быть несколько» [41, с. 116].
Реализация «модельного» подхода к формированию бюджетов, как подчеркивают Р.С. Афанасьев, Л.Н. Богданов, Р.В. Гулидов, С.Н. Леонов, фактически приведет к перераспределению средств от северных и дальневосточных регионов к другим субъектам РФ и достижению «всеобщего равенства в бедности» [52] .
Таким образом, выделенные нами примеры усредненного подхода при реализации региональной политики России демонстрируют негативные последствия игнорирования институциональных различий и уровней развития территорий.
Эффективность как комплексный критерий качества системы институтов пространственного развития
Подробно раскроем содержание каждого элемента категории «эффективность» применительно к анализируемой институциональной системе.
Что касается критерия экономичности, то необходимо обратить внимание на неадекватность фактических затрат и результатов функционирования большей части действующих и вновь создаваемых институтов пространственного развития: кластерных структур [53], системы зон со специальными режимами хозяйствования [54–56], технопарков [57].
П.А. Минакир, анализируя национальный проект по развитию Дальнего Востока и расширение Дальневосточного федерального округа за счет передачи в его состав Республики Бурятия и Забайкальского края, также обращает внимание на ограниченность располагаемых экономических ресурсов для осуществления реальных преобразо- ваний в социально-экономической и институциональной сферах [58, с. 16].
Что касается критерия результативности, предполагающего в том числе оценку степени достижения целей и функций институтов, то, к сожалению, в российской практике пространственного развития можно привести достаточно много примеров, когда функционирование института отклоняется от «стандартного» – от того, которое ожидалось экономическими агентами и (или) законодателем при трансплантации или конструировании [59, с. 91].
Одним из таких примеров институциональной неэффективности является проведение политики поддержки так называемых «регионов (полюсов) роста» , которая благодаря агломерационным механизмам должна была автоматически привести к переливу знаний или распространению инноваций и, как следствие, сокращению уровня межрегиональной дифференциации в России. Однако учеными доказывается негативное влияние полюсов роста на окружающее пространство в части утраты имеющихся ресурсов [60]. Данные процессы, называемые «опустыниванием» соседних субъектов РФ [61, с. 47], способствуют истощению экономического потенциала регионов-доноров и повышению пространственного неравенства территорий. Подобные выводы получили подтверждение и на данных регионов Европы [1].
В качестве второго примера институциональной неэффективности можно привести функционирование института транспортной связанности регионов , когда фактически уменьшение транспортных затрат приводит не к снижению, а напротив, к росту пространственной неоднородности.
Данный вывод был подтвержден А.Г. Исаевым с помощью регрессионных моделей на данных 75 смежных субъектов РФ за период 2000–2013 гг. Было выявлено статистически значимое отрицательное влияние (примерно одинаковое для двух типов прокси-индикаторов) автомобильных и железных дорог соседних регионов на экономический рост, что связывается автором с преобладанием локального типа инфраструктуры над сетевым. Кроме того, регионы с высокими темпами развития сети автомобильных дорог имеют более высокие темпы роста среднедушевого дохода и, как следствие, более высокую отдачу на факторы производства – труд и капитал. Это приводит к усилению конкуренции между регионами за мобильные факторы производства, которые перемещаются в более динамично развивающиеся регионы [62, с. 67].
Схожие результаты были получены S. Iammarino , A. Rodriguez-Pose , M. Storper на данных стран ЕС, утверждающими, что транспортная связанность усиливает неоднородность в региональном развитии за счет увеличений различий в привлекательности регионов. Связанные между собой места не только лучше приспособлены для использования своих до сих пор скрытых сравнительных преимуществ, но и подвержены повторной централизации ресурсов и знаний из-за снижения транспортных издержек обслуживания менее густонаселенных регионов [1]. Подобный вывод о рассредоточении экономической активности в результате улучшения транспортной инфраструктуры на примере российских регионов делает Е.А. Коломак [40, с. 147].
Приведенные нами примеры институциональной неэффективности демонстрируют отклонение функционирования института от ожидаемых экономическими агентами результатов. Очевидно, что действенность и эффективность института определяется степенью его соответствия сложившимся условиям развития и действующей институциональной среде. Поэтому те или иные управленческие решения, связанные с улучшением пространственной организации, должны учитывать данные аспекты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Синтез инструментария институциональной экономической теории, иерархического анализа и системного подхода использован для обоснования причин неэффективности функционирования действующей системы институтов пространственного развития. С этой целью определены базовые параметры качества системы ин- ститутов пространственного развития, дана их характеристика. Исходя из представленного анализа, можно констатировать, что си- стема институтов пространственного развития неэффективна, поскольку не соответствует критериям экономичности и результативности, финансово не обеспечена, не детерминирует и не регламентирует хозяйственную деятельность экономических субъектов и, как следствие, не способствует повышению экономической, социальной и институциональной эффективности функционирования социально-экономических систем.
В результате, сложившаяся система институтов пространственного развития не обеспечивает реализации главной задачи территориальной организации экономики – сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения путем активизации и интенсификации продуктивного межрегионального сотрудничества. Возможно, одной из фундаментальных причин устойчивости неэффективных институтов в данной области является то, что политические задачи управляемости в России превалируют над задачами экономического развития и роста, когда на передний план выходят «интересы преимущественно управленческого удобства» [34].
Данный тезис подтверждается в исследовании советского гражданства G. Alexopoulos , отмечающей, что основополагающими факторами при принятии решений в СССР являлись политические, при этом органы власти «принципиально не руководствовались экономическими соображениями» [63, с. 489].
Соглашаясь с тем, что «попытки модернизации России упираются в барьеры, обусловленные ее огромной территорией» [42, с. 48], отметим наличие положительного опыта ряда аналогично «больших» стран, успешно преодолевших данные барьеры. Так, страны ЕС успешно взаимодействуют в рамках концепции «умной специализации», реализованной на специальной платформе ( Smart Specialisation Platform ), которая позволяет выбрать специализацию путем сравнения собственных возможностей с возможностями других территорий, оценки собственной конкурентоспособности, определения целевых рынков и отраслевых приоритетов.
В США вопросы стимулирования межтерриториального сотрудничества решаются на основе государственно-частного партнер- ства, объединяющего ресурсы богатых и бедных штатов при реализации совместных проектов [64]. Правовые основы указанного сотрудничества определены законодательно путем закрепления за территориями разных уровней специальных источников доходов. Таким образом, автономия налоговых поступлений имеет принципиальное значение для развития межрегиональной кооперации.
В данном контексте определенный интерес представляет опыт Канады, где часть провинций уполномочена не только принимать решения по вопросам налогообложения, но и изменять внутреннее конституционное устройство [64] . При этом доходы от использования природных ресурсов направляются на социальные расходы.
Приведенные примеры свидетельствует о реальной возможности построения эффективных институтов пространственного развития в странах с большими площадями. Представляется, что дальнейшее исследование системы институтов пространственного развития национальной экономики в контексте выделенных детерминантов качества позволит не только наиболее точно определить исходное качество институциональной системы и степень ее дисфункциональности, но и более точно скорректировать вектор и содержание институциональных изменений, необходимых на данном этапе развития экономики.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Разработка методологии, математического и программного инструментария пространственного развития экономики на основе реформирования системы межрегионального взаимодействия» 19-010-00562.
Список литературы Обоснование причин неэффективности системы институтов пространственного развития РФ в контексте параметров качества
- Iammarino S., Rodriguez-Pose A., Storper M. Regional inequality in Europe: evidence, theory and policy implications // Journal of Economic Geography. 2019. № 19. Р. 273-298. DOI: 10.1093/jeg/lby021
- Andres-Rosales R., Bustamante Lemus C., Argumosa Ramirez G.S. Social exclusion and economic growth in the Mexican regions: A spatial approach // Journal of Regional Research. 2018. № 40. Р. 57-78.
- Puga D. European regional policy in light of recent location theories // Journal of Economic Geography. 2002. № 2. Р. 373-406. DOI: 10.1093/jeg/2.4.373 EDN: ISSIWP
- Бухвальд Е.М., Кольчугина А.В. Стратегия пространственного развития и приоритеты национальной безопасности Российской Федерации // Экономика региона. 2019. № 3. С. 631-643. DOI: 10.17059/2019-3-1 EDN: VVWMFC
- Татаркин А.И. Историческая миссия среднего региона в модернизации российской экономики // Федерализм. 2011. № 1. С. 19-30. EDN: NEBUTR