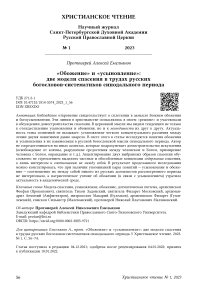"Обожение" и "усыновление": две модели спасения в трудах русских богословов-систематиков синодального периода
Автор: Емельянов Алексей Николаевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Богословие
Статья в выпуске: 1 (104), 2023 года.
Бесплатный доступ
Библейское откровение свидетельствует о сплетении в замысле Божием обожения и богоусыновления. Эти линии в христианстве осмыслялись в своем «режиме» и участвовали в обсуждении домостроительства спасения. В церковной мысли мы видим тенденции не только к отождествлению усыновления и обожения, но и к несводимости их друг к другу. Актуальность темы сомнений не вызывает: установление четкого концептуального различия между этими двумя понятиями давно назрело. В свете этого в статье исследуются понятия обожения и усыновления в их взаимосвязи в русской богословской мысли синодального периода. Автор не сосредоточивается на иных аспектах, которые подразумевает домостроительство искупления (освобождение от клятвы, разрушение средостения между человеком и Богом, примирение человека с Богом, оправдание и т. д.). Акцентирование двух выбранных образов спасения обусловлено не стремлением выделить частные и обособленные концепции содержания спасения, а лишь интересом к соотношению их между собой . В результате проделанного исследования можно констатировать, что при наличии упоминаний пары понятий - усыновление и обожение - соотношение их между собой никого из русских догматистов рассмотренного периода не интересовало, а патристическое учение об обoжении (в связи с усыновлением) утратило актуальность в академической среде.
Модель спасения, усыновление, обожение, догматическая система, архиепископ феофан (прокопович), святитель тихон задонский, святитель филарет московский, архимандрит антоний (амфитеатров), митрополит макарий (булгаков), архиепископ филарет (гумилевский), епископ сильвестр (малеванский), протоиерей николай платонович малиновский
Короткий адрес: https://sciup.org/140297618
IDR: 140297618 | УДК: 271.2-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_1_56
Текст научной статьи "Обожение" и "усыновление": две модели спасения в трудах русских богословов-систематиков синодального периода
Всю низложив смерти державу Сын Твой, Дево, Своим воскресением, яко Бог крепкий совознесе нас и обожи́: темже воспеваем Его во веки.
Богородичен 8 песни канона Пасхи
О многообразии моделей спасения
Благовестие Христово есть «сила Божия ко спасению всякого верующего» (Рим 1:16). Но в Писании и Предании нет однозначного ответа на вопросы о содержании и средствах спасительного Божия изволения. В Никейском символе веры указуется единственная цель сошествия с небес Сына Божия: спасение человечества. При этом никакой церковный догмат не уточняет, как исторические события евангельской истории связаны с достижением этой цели [Пеликан, 2007, 135–136].
При построении модели1 домостроительства спасения выделяют различные характеристики, обращая большее внимание или на искупление человечества и очищение его от греха, или на его нравственное возрождение, или на уврачевание поврежденной падшей человеческой природы, в зависимости от того, к какой из теорий спасения (юридической, нравственной либо «органической») склоняется тот или иной богослов. Попутно встает вопрос о том, какие из аспектов, описывающих домостроительство спасения, относятся к содержанию и конечной цели спасения как такового, какие являются указаниями на необходимые условия и средства, доставляющие спасение, и, наконец, что имеет отношение к его следствиям или плодам . При этом в соте-риологии подчас оперируют несводимыми воедино образами и понятиями, в равной степени имеющими истоки в Писании и/или Предании2.
При таком разнообразии представлений о спасении актуальным становится уяснение соотношений между различными моделями в рамках церковной традиции. Казалось бы, можно говорить о консенсусе относительно понимания конечной цели искупительного подвига Иисуса Христа: «Различные течения современного православного богословия сходятся на том, что спасение должно пониматься как приобщение, освящение или обожение (θέωσις греческих отцов) и что основывается оно на синергии Божественной благодати и человеческой свободы» [Мейендорф, 2013а, 214]. Однако Предание не обладает однозначной терминологией и понятийной иерархией для передачи икономии спасения. Так, можно упомянуть «синтетическую» модель спасения, согласно которой его конечная цель — единение человека с Богом — осуществляется посредством усыновления Богу, освящения и обожения, вместе составляющих объективную сторону спасительного дела Иисуса Христа. Согласно этому варианту реконструкции Божественного замысла, усыновление, освящение и обожение (именно в такой последовательности) образуют цепь восхождения человека ко спасению [Мкртчян, 2016, 44-55]3. В этой модели искупления усыновление выступает не столько целью спасительного замысла о человеке, сколько средством его достижения.
«Обожение» и «усыновление» в древней церковной традиции
В статье рассматривается соотношение двух моделей спасения человека — через усыновление и через обожение — в трудах русских богословов синодальной эпохи. Сопоставление этих двух образов спасения может быть обосновано тем, что имеет в свою пользу библейское свидетельство. В подтверждение приведу важные для дальнейшего изложения слова из 81-го псалма Давида, которые Христос использует в полемике с иудеями на празднике обновления (Ин 10:35–36). Он произнес только часть 6-го стиха псалма, относящуюся к содержанию беседы: «Я сказал: вы боги», ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε. Цитата из Ветхого Завета напомнила, что Господь через псалмопевца именует богами тех, к кому Он обращается. Во второй части стиха наряду с «богоста-новлением»4 говорится о богосыновстве: «Вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы», 9eoi Ёсте Kai uioi йфсотои navTEg (Пс 81:6). К св. Иустину Мученику восходит церковная традиция понимания этих слов, согласно которой подразумевающееся в тексте исключительное усвоение человека Богу происходит не нравственно (через стяжание добродетели), а через неизъяснимое рождение от Христа и мистический акт вселения Бога в человека. На основании 81-го псалма мч. Иустин говорит о богосыновстве (не употребляя термин uioQEcia): «Мы, соблюдающие заповеди Христовы от родившего нас для Бога Христа, называемся... истинными сынами Божиими и на самом деле таковы». Такие люди «сыны Всевышнего, и в собрании их будет присутствовать этот Самый Христос, творя суд всему роду человеческому. Эти слова сказаны Давидом» (Иустин Философ, 1862, 353-354)5. Здесь для нас существен сам факт параллельного употребления образов богосыновства и «богостановления» [Леонов В., 263]. Это позволяет говорить о том, что кроме библейского основания доводом к их соотнесению друг с другом служит свидетельство Предания Церкви с раннего периода.
Первое понятие, обусловившее тему настоящей статьи, — обожение, — использовалось отцами Церкви в христологическом и сотериологическом контекстах [Леонов В., 264]. Соответствующий термин (SEocig), будучи небиблейским, определил святоотеческое понимание спасения, посредством которого осуществляется Божественный замысел о человеке и достижение цели его существования как «причастности» бытию Божию. У слова SEocig есть синонимы, используемые в Новом Завете для обозначения восстановленных действием благодати отношений между Богом и человече-ством6. В церковной традиции сотериология запечатлелась в формуле сщмч. Иринея Лионского: «Для того Слово Божие сделалось человеком и Сын Божий — Сыном Человеческим, чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усыновление, сделался сыном Божиим» (Ириней Лионский, 1900, 292-293). И у того же автора несколько обобщенно, с неявным намеком на природный модус уподобления: Иисус Христос «по неизмеримой благости Своей сделался Тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он» (Ириней Лионский, 1900, 446) (qui propter immensam suam dilectionem factus est quod sumus nos, uti nos perficeret esse quod est ipse. Irin. Lion. Ad. Haer. 5. Praef. PG 7.2. Col. 1120B) (выделено мной. — прот. А. Е.). Таким образом, в христианской мысли начиная с глубокой древности встречается модель спасения человека через «богостановление» (uti nos perficeret esse quod est ipse) [Gross, 2002, 91–92; Stephen, 2007, 17].
Второе понятие обозначается термином υἱοθεσία, который в Новом Завете встречается пять раз (в различных формах) при возвещении истины о спасении через усыновление христиан Богу. Все эти тексты принадлежат ап. Павлу в его Посланиях к Римлянам, Галатам и Ефесянам (Рим 8:14–17; 8:22–23; 9:3–4; Гал 4:4–5; Еф 1:4–5). Хотя в Писании есть множество мест, где идея усыновления Богу присутствует и без употребления этой терминологии. Достаточно привести пример из того же Послания к Римлянам (Рим 8:28–30), где содержится мысль о том, что Христос есть наш Брат и через Него спасаемые становятся сынами Бога, то есть фактически речь идет об усыновлении Отцу. Мысль об усыновлении акцентируется в Прологе Евангелия от Иоанна, в котором говорится о том, что через веру людям подается особая « власть быть чадами Божиими, которые… от Бога родились » (Ин 1:12, 13). Обращение Молитвы Господней с древнейших пор интерпретировалось как дарование верным особой привилегии обращаться к Богу как к своему Отцу7.
Для того чтобы качественно представить древнюю традицию в целом, выскажу несколько замечаний о соотношении двух интересующих нас терминов.
Во-первых, в церковной письменности II–XV вв. лексема «обожение» (θέωσις) встречается 962 раза, а «усыновление» (υἱοθεσία) — 1697 раз8. Конечно, применение численных методов в гуманитарной области исследования не может служить надежным способом получения результата. Кроме того, формально первый термин — не библейского происхождения, а последний встречается в Священном Писании. Уже только поэтому некорректно ставить их «удельный вес» в церковной письменности в формальную зависимость от числа их употребления. Однако разница в частотности с коэффициентом 1,8 позволяет предположить, что в грекоязычной церковной традиции по крайней мере вплоть до XV в. представление о спасении как богоусыновлении могло быть не менее распространенной сотериологической моделью, чем понимание спасения как обожения.
Во-вторых, прп. Симеон Новый Богослов (XI в.) созерцательно учит о цикличном возвращении человечества от первого Адама через его ребро — жену Еву, а затем новую Еву (Деву Марию, безупречную, непорочную и чистую, как взятое у Адама ребро), к новому Адаму — Христу, Который, «став человеком... тотчас оказался для всех людей родственником по плоти» (Симеон Новый Богослов, 2017, 288). Свое суждение святой отец подтверждает отсылкой к предшествующей вероучительной традиции, обращаясь к наследию свт. Григория Нисского и резюмируя его доводы из сочинения «Против Евномия» (Григорий Нисский, 1864, 238). «Об этом сказал один из бывших прежде нас: „Облекшись в плоть, Он облекся и в братство“. <...> Бог всегда есть и будет свят... Но люди, хотя и были братьями и родственниками Его по плоти... не сделались сразу святыми и сынами Божиими... Бог стал человеком, родственником и братом для всех людей. <...> Если сохраним все, что Сам Бог сказал нам... то... станем, как Он, святыми и совершенными, всецело небесными, чадами небесного Бога, во всем подобными Ему через усыновление и благодать, поскольку и Он сделался подобным нам, кроме греха (курсив мой. — прот. А. Е.)» (Симеон Новый Богослов, 2017, 288–289). Таким образом, по рассуждению св. Симеона усыновление подразумевает и обожение.
Наконец , в-третьих, сщмч. Петр Дамаскин, выразитель коллективного монашеского опыта вплоть до ХII в., в поучении о добродетелях выстроил их в духовно им познанный иерархический порядок. В его сочинении «Исчисление добродетелей» этот перечень завершается следующим образом: «...и чрез все двести двадцать восемь вместе [перечисленных автором выше добродетелей проистекает] усыновление (Пс 81:6; Ин 1:12–13), то есть бытие человеку богом (выделено мной. — прот. А. Е. ), благодатию Даровавшего нам победу над страстями» (Петр Дамаскин, 2009, 261). Из этого можно заключить, что для св. Петра усыновление служит «соỳзом совершенства» всех добродетелей, увенчивает все остальные благодатные плоды в человеческой личности, а кроме того, усыновление для него тождественно обожению9.
В заключение сошлюсь на слова прп. Иоанна Дамаскина (VIII в.) из его исключительного по значимости творения «Источник знания»10, которые также свидетельствуют о соотносительности обожения и усыновления в церковной традиции. «Бог — причина и начало всего... Он — Отец тех, которые Им сотворены. Ибо Бог, приведший нас из не сущих в бытие, в более собственном смысле — наш Отец , чем те, которые нас родили... Он... для тех, которые обожествляются, щедрый Даятель Божества (выделено мной. — прот. А. Е. )» (Иоанн Дамаскин, 2002, 177–178).
Итак, древнее церковное предание в его различных пластах свидетельствует о восприятии богоусыновления как статуса, наряду с обожением, адекватно отражающего содержание спасения во Христе. Более того, по мнению К. Шёнборна, со времени арианских споров у отцов Церкви «боготворение» (θεοποίεσις) получило наиболее ясное толкование как тождественное благодатному «сынотворению» (υἱοποίεσις) (см.: [Шёнборн, 2003, 107])11. При этом, в отличие от единосущного Отцу Сына, люди «сынами нарицаются не по естеств у (= природе, διὰ τὸ μὴ φ ύ σει), а по усыновлению
-
(= установлению, ἀλλὰ θ έ σει αὐτοὺς λέγεσθαι υἱούς φησι)» (Афанасий Великий, 1994, т. 2, 339; Athanasius. Adv. Arian. II. 59 // PG. Т. 26. Col. 272)12.
«Обожение» и «усыновление» в русской богословской традиции
С учетом вышеизложенного резонно обратиться к соотношению этих двух моделей искупления у наиболее значимых русских богословов-систематиков синодальной эпохи. Рассмотрение этой проблемы имеет смысл как для реконструкции истории богословских идей, так и для построения целостной сотериологической системы. Особенно учитывая, что идея усыновления достаточно полно представлена в новозаветном откровении, а идея обожения, столь популярная у отцов, напротив, в Писании дана весьма прикровенно. Поэтому видится важным на материале русского богословия периода его расцвета представить, как тогда мыслилось соотношение двух важнейших сотериологических категорий. При этом я не буду сосредотачиваться на иных аспектах, которые подразумевает домостроительство искупления. То есть речь не будет вестись ни об освобождении от клятвы, тяготевшей над людьми со времен грехопадения Адама, и разрушении средостения между человеком и Богом, ни о примирении человека с Богом, ни об избавлении человека от порабощения греху и оправдании его, ни о возглавлении Христом человеческой природы или о ее уврачевании и т.д. Акцентирование двух выбранных для исследования образов спасения, засвидетельствованных Преданием, обусловлено не стремлением выделить частные и обособленные концепции содержания спасения, а лишь интересом к их соотношению между собою .
Отдельно следует оговорить, что здесь не будет рассматриваться соотношение двух вышеозначенных понятий и с категорией «освящение», которая является фундаментальной для богословия синодального периода (достаточно упомянуть стандартный раздел догматик того времени, посвященный Богу-Освятителю). Рамки статьи не позволяют подробно рассмотреть этот вопрос, являющийся темой отдельного исследования. В качестве рабочей гипотезы ограничусь лишь предположением, что из-за так называемого «западного пленения» (в частности, выражавшегося в стремлении установить различие между Божественным и человеческим, естественным и сверхъестественным) в синодальный период идея «обожения» не была распространена, поскольку была потеснена идеей «спасения души» (см.: [Карсавин, 1994, I, 13]). Поэтому нас будет интересовать то, как (вопреки акценту на «освящении»13) в это время все-таки упоминалось и «усыновление» с «обожением».
В качестве источников настоящего исследования избраны богословские системы синодального периода. Прежде чем обратиться к ним, кратко коснусь предшествующего времени, в которое возникли предпосылки систематизации вероучения в Русской Церкви. Упомяну лишь о некоторых «предтечах» догматических систем, поскольку в них употреблялись интересующие нас термины, относящиеся к домостроительству спасения.
Первоначальная попытка систематизации православного вероучения на элементарном катехизическом уровне была предпринята по инициативе свт. Петра (Могилы; 1596-1646). «Православное исповедание Кафолической и Апостольской Восточной Церкви», составленное по почину митр. Петра вместе с его сподвижниками — игум. Исаией (Трофимовичем-Козловским) и еп. Сильвестром (Коссовым), содержит ясное и простое утверждение усыновления людей Богу через Христа: «Кто желает просить Бога, должен приступать к Нему не только как Его творение, но и как сын Его по благодати; поелику если он не сын, то не может назвать Его Отцем. А сию благодать усыновления дал Иисус Христос верующим в Него, как говорит Писание... (Ин 1: 12; Гал 4: 6)» (см. раздел О Молитве Господней) (Петр Могила, 1900, 85)14. Термин «обожение» в «Исповедании» ожидаемо не встречается, нет здесь и никакого нетерминологического обращения к этой теме. Исследователи по-разному отзывались о степени схоластичности труда митр. Петра [Асмус, 2002; О книге, 1844; Флоровский, 1988, 44–52; Флоровский, 2000]. Во всяком случае, когда преосвященный автор характеризует спасительное состояние усыновления Богу, в его строках не чувствуется искусственности, нет никакой логической игры. Святитель передает содержание учения Православной Церкви, используя естественные житейские аналогии, сродни приему, впоследствии примененному свт. Тихоном Задонским (см. ниже).
В Русской Церкви особое значение помимо «Исповедания» свт. Петра (Могилы) имели еще два вероучительных документа: «Изложение православной веры восточной Церкви» (1672 г.; было отослано в 1723 г. христианам Великобритании от имени восточных Православных Церквей; в России издано под заглавием «Послание патриархов восточно-кафолической Церкви о православной вере» в 1838 г.) и «Пространный христианский катехизис» свт. Филарета (Дроздова) (1-е изд.: 1823/24 г.). Эти три труда в совокупности именуются митр. Макарием (Булгаковым) «нарочитым руководством и пробным камнем для поверки своего верования» (Макарий Булгаков, 1871, 408, 411)15.
В «Изложении» только единожды встречается интересующая нас терминология в разделе о таинствах: «Желающий обратиться ко Господу воспринимает потерянное сыноположение (курсив мой. — прот. А. Е. ) посредством таинства покаяния». При этом сам образ усыновления с содержательной стороны в документе не обсуждается.
Что касается «Катехизиса» свт. Филарета, то ни один из рассматриваемых терминов в нем ни разу не применяется (что опять-таки неудивительно для «обожения» из-за его небиблейского происхождения, но не для «усыновления»), однако стоящие за ними понятия отчасти подразумеваются. При разборе 11-го члена Символа веры, задаваясь вопросом, в чем будет заключаться блаженство жизни будущего века, святитель отвечает, что оно «последует от созерцания Бога во свете и славе и от соединения (курсив мой. — прот. А. Е. ) с Ним». Тем самым, в общем виде идея причастности присутствует в «Катехизисе». И без всякой связи с этим в разделе о молитве автор утверждает, что «мы осмеливаемся называть Бога Отцом по вере во Иисуса Христа и по благодати возрождения», апеллируя при этом к евангельскому тексту о духовном рождении чад Божиих (Ин 1:12–13), как это делает и митр. Петр (Могила) в соответствующем разделе о Молитве Господней (см. выше сн. 14).
В дополнение к вышеизложенному приведу пример из труда «отца систематического богословия в России» архиеп. Феофана (Прокоповича; 1681–1736)16. Бог у архиеп. Феофана, в согласии со сложившейся тогда в западноевропейской теологии традицией, проявляется по отношению к падшему человечеству как Искупитель, действие Которого «прилагается» к спасаемым и в них творит плоды: оправдание, усыновление, освящение, прославление (согласно Рим 8:13–17, 29–30) (см.: [Чер-вяковский, 1876, 52–53]). Отсутствие упоминаний об обожении в системе преосвященного автора может объясняться тем, что, по мнению исследователя его наследия, для архиеп. Феофана «светлая идея примирения скрывается в величественном сумраке ветхозаветного сознания противоположности Йеговы и человека» [Червяков-ский, 1876, 48–49]. В то время как для богословов Православной Церкви идея самобытного Бога не вступает в такое напряжение с человеческой ограниченностью и восточным отцам близка новозаветная тема Божественной всещедрой милости к падшему человечеству.
Вслед за ап. Павлом архиеп. Феофан (Прокопович) расположил интересующие нас сотериологические категории (в числе прочих) в порядке следования друг за другом соответствующих стадий сродства образу прославленного Христа (кого Бог «предузнал, тем предопределил быть подобными образу Сына Своего» — «призвал» — «оправдал» — «прославил», Рим 8:29–30; ср.: «Мы же все... взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу», 2 Кор 3:18). Вероятно, в этом месте Послания к Римлянам речь идет о состоянии верных после воскресения и преображения в будущем, а не в настоящем веке (как и в 1 Кор 15:47, 49: «Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба... И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного»). Но, получая исполнение в будущем веке, процесс прославления начинается в этом мире: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим 8:17). Судя по тексту, верные одновременно становятся детьми Божиими и обретают свободу и славу (Рим 8:21). То есть усыновление и прославление мыслятся апостолом стоящими на общей ступени по пути облечения во образ Христов. Однако у нас нет оснований предполагать, что богослов задумывался о соотношении рассматриваемых сотериологических категорий. Нет ясности и в том, что он понимал под прославлением и как оно соотносится с обожением.
Еще один факт, формально не имеющий прямого отношения к становлению систематического богословия в России, но показательный для темы исследования, связан с наследием архиеп. Феофана (Прокоповича). В ходе его полемики о «законе и благодати» с митр. Стефаном (Яворским; 1658–1722) (см.: [Хондзинский, 2013, 203]) был затронут и вопрос о возможности «чистой любви» к Богу (см.: [Хондзинский, 2013, 206–207, 227–233]). Отличительным свойством последней было предложено считать ее сыновнее «качество» (как противоположность наемничеству ) (см.: [Хондзин-ский, 2013, 206]). Конечно, корни подобного сопоставления обретаются в евангельском провозвестии (см. притчу о блудном сыне, Лк 15:18–19). Традиция сходного «оттенения» сыновней близости к Небесному Отцу через антитетический параллелизм прослеживается в христианской письменности с ранней эпохи17. «Социологическая» типология отношения человека к Богу (раб — наемник — сын) становится достоянием святоотеческой традиции уже в IV в. (Василий Великий, 2008, 152; Григорий Богослов, 1994, 551), и в VI в. на нее же опирается в своем аскетическом труде преподобный авва Дорофей18. Попутно замечу, что с этими святоотеческими формулировками критерия сыновней любви к Богу по существу совпадает августиновская дефиниция «духовной любви»19, к которой восходит западноевропейская концепция «чистой, бескорыстной» любви, сформировавшаяся в XVII в. (см.: [Хондзинский, 2013, 55–71]). Эта «духовная любовь» есть, по митр. Стефану, единственное средство для соединения человека с Богом, и более того: «Кто совершенно любит Бога, тот бог есть. <...> В сем Бог пребывает, сей весь в Бога облечеся» (Стефан Яворский, 1804–1805, 228–229), «весь Бог пребывает в том, иже совершенно любит Бога» (Стефан Яворский, 1804–1805,
-
233). Преосвященный автор делает акцент на коллизии: первый человек пострадал «за желание Божества», а теперь Сам Бог «не токмо желает, дабы мы были бози, дабы Божества Его участницы, но и повелевает: хощет Бог, дабы всякий от нас в сие достоинство восходил» (Стефан Яворский, 1804–1805, 227). Очевидно, что в начале XVIII в. митр. Стефану были известны основные формулы святоотеческого богословия, касающиеся понятия обожения20 и его связи с воплощением21. По его мысли «мостом», через который сообщаются Божественная и человеческая природы, служит не душа и не ум (как у древних отцов) (см.: [Попов, 1909, 27–29]), но любящее сердце, поскольку сердце есть центр, от которого «приемлет начало своего существа» человеческая природа (Стефан Яворский, 1804–1805, 246, 247, 239), а любовь есть богоустановленный «механизм» обожения22. Таким образом декларируется следующее необходимое и достаточное условие: одна и только одна сыновняя любовь способна привести человека к обожению. Это еще не формулировка того, как соотносятся категории «усыновление» и «обожение», поскольку «сыновняя любовь» может быть понята лишь как «субъективная» сторона усыновления Богу. Но сказанного довольно для того, чтобы стала понятной мысль митр. Стефана: и усыновление, и обожение свершаются как результат встречи в сердце человека его любви и любви Божественной, и в этом процессе первое служит условием последнего.
Отдельно упомяну трактат свт. Тихона Задонского, изданный под названием «Об истинном христианстве» (1771). В нем автор неоднократно обращается к образам рождения от Бога23 и усыновления Ему, полагая их итогом спасительного домострои-тельства24. В этом труде есть глава «О том, что Бог есть Отец христианам истинным», целиком посвященная «семейным аналогиям» спасения человека (Тихон Задонский, 1889, т. 3, 374). Термин «обожение» святитель не употребляет. Однако о близости этой категории для святого говорит вдохновенно начертанная им картина восстановления нарушенного грехопадением богообщения человека и возобновления его способности отображать святость Первообраза. И хотя свт. Тихон не имел целью анализировать интересующие нас богословские понятия и у него нет никакого спекулятивного их сопоставления, однако органичная связь рождения от Бога с уподоблением Ему и «становлением таким, как Он» явственно обнаруживается в «Истинном христианстве» (Тихон Задонский, 1889, т. 3, 80).
Богословская литература рассматриваемого периода, конечно, не может быть исчерпана вышеупомянутыми трудами, но каждый из них по-своему имел выдающееся влияние на последующую эпоху. Об «образцовом» характере догматического труда архиеп. Феофана (Прокоповича) было сказано выше. Известно, что по его плану (в свою очередь, не вполне оригинальному) была построена догматика архиеп. Филарета (Гумилевского; 1805–1866) (см.: [Червяковский, 1876, 52]). Говоря о влиянии богословского наследия свт. Тихона Задонского, можно сослаться на то, что начиная с 1825 г. до конца столетия полное собрание его творений вышло шесть раз (см.: [Коледич, 2009, 15]), не считая изданий отдельных сочинений. Святейший Синод еще задолго до прославления святителя рекомендовал его труды к назидательному чтению в храмах, их почитали за образец свтт. Филарет (Дроздов), Феофан (Говоров). Они были широко известны простому народу и пастырям, ими восхищались писатели — Гоголь, Достоевский, Успенский (см.: [Иоанн Маслов, 1995, 459]). Наконец, сошлюсь на напечатанный в начале ХХ в. хвалебный отзыв Е. Поселянина25. По предложенной прот. Павлом Хондзинским классификации направлений русского богословия синодальной эпохи труд свт. Тихона может быть отнесен сразу к двум пластам богословской мысли: духовно-академическому и светскому (см.: [Хондзинский, 2017, 6-7]). Принадлежность к такому «промежуточному» жанру не препятствовала высокому авторитету «Истинного христианства» и в академической среде (см.: [Лисовой, 2002, 44]).
Разобранные примеры могут служить репрезентативной выборкой текстов вероучительного характера, в контексте которых готовились русские академические курсы догматики. Анализ этих памятников догматической мысли свидетельствует о том, что их авторов почти исключительно занимали вопросы, от чего спасен человек и как или посредством чего это совершил Господь. Тем более рассмотрение не касалось таких тонкостей, как соотношение в деле спасения обожения и усыновления. В свете этого упомянутая выше проповедь митр. Стефана служит замечательным документом, говорящим о хранении русской догматической мыслью богословской интуиции древних отцов Церкви об обожении как о цели спасительного домостроительства. Но и там мы не встречаем в явном виде обращения к интересующей нас коллизии двух моделей спасения. Создается впечатление, что из поля зрения русских богословов рассматриваемого периода патристическое учение об обожении и о его связи с богоусыновлением выпало.
«Обожение» и «усыновление» в курсах догматики синодального периода
Спустя столетие после свт. Тихона Задонского получили распространение пять объемных курсов догматики, которые многократно переиздавались и многие годы пользовались широким авторитетом в духовных школах (см.: [Никитина, 2009]). В моей статье более тщательно исследуется этот корпус вероучительной литературы периода преобразования духовных академий (после 1809 г.), поскольку именно эти пять трудов характеризуются 1) систематичностью изложения вероучения (в котором все отдельные положения связаны в стройное целое); 2) отсутствием в них взаимоисключающих тезисов; 3) четким разграничением собственно догматов от богословских мнений; 4) наличием в них общей преемственности подхода; 5) рецепцией этих догматических трудов в академической церковной среде (см.: [Давыденков, 2013, 31–34]). Эти свойства догматических систем позволяют рассчитывать на то, что в них наиболее вероятно обнаружить осмысление содержания вероучительных категорий и связи между ними.
В хронологически первом из вышеуказанных догматических сочинений, составленном архим. Антонием (Амфитеатровым) (1848), обожение человека мыслится отдельно от усыновления: с первым понятием автор связывает преимущественно эсхатологический аспект26, а последнее относится к плодам благодатного оправдания в таинстве Крещения27. В параграфе о следствиях соединения двух естеств во Христе говорится об обожении Его человечества, но не обсуждается то, как это отражается на роде людском. Поэтому, хотя автор и утверждает, что Спаситель «есть человек единого естества с нами», но обожение в этой системе есть следствие воплощения «по отношению к Самому Христу» (Антоний Амфитеатров, 1848, 144, 148, 154).
В учебнике митр. Макария (Булгакова), изданном в 1849–1853 гг., акцентируется истинность богообщения в таинстве Евхаристии «теперь и сейчас»28. При раскрытии объема понятия «спасение» автор перечисляет плоды искупительного подвига Христа. Среди них присутствует обожение человека (никак не выделенное среди других), а об усыновлении не упоминается. Примечательно, что в этом параграфе слова из Послания к Ефесянам (Еф 1:5–6) трактуются митр. Макарием как откровение о приведении рода людского к славословию , хотя начинается этот отрывок с явного предречения об усыновлении во Христе (Макарий Булгаков, 1883, 24–25), то есть в данном случае автор опускает этот аспект апостольского учения. В разделе, посвященном первосвященническому служению Христа, подвергая разбору спасительное значение крестной жертвы, догматист пишет, что усыновление определяет итог искупления людей. В этом параграфе (зеркально с предыдущим примером) не упоминается обожение, при этом приводятся свидетельства о нем Писания29 (2 Пет 1:4) (Макарий Булгаков, 1883, 146– 147). Наконец, подтверждая освящение человека спасительным действием благодати, митр. Макарий отсылает читателя к свидетельствам Нового Завета, говорящим наряду об обеих рассматриваемых категориях. Но при этом они для автора играют роль служебных средств, доказывающих основную идею: действительность оправдания и освящения человека30. Следовательно, можно констатировать, что в этой догматической системе взаимосвязь обожения и усыновления остается не выявленной.
В курсе догматики архиеп. Филарета (Гумилевского) (1864) изъясняется, «что от вечности Бог Отец определил, чтобы Сын Божий, воспринявши человеческое естество, смертию Своею удовлетворил правосудию Божию и приобрел людям право сынов Божиих ... верующие получили во Христе право на наследие и усыновление , προωρισθέντες
κατά πρόθεσιν τοῦ θεοῦ — быв предназначены к тому определением Божиим (Еф 1:5, 11)» (Филарет Гумилевский, 1865, 1, 3). По предложенной святителем схеме, это «право на богосыновство» реализуется через Крещение, что, в свою очередь, делает возможным участие человека в дарах Божией любви (Филарет Гумилевский, 1865, 206, 208). Поскольку для архиеп. Филарета усыновление есть тот путь, который доставляет «право на вечную блаженную жизнь», постольку усыновление играет в этой догматической системе роль «проводника» для достижения цели спасительного домостроительства. Термин «обожение» в этой «Догматике» не встречается. При изложении воздействия на приобщающихся таинства Евхаристии подчеркивается акт оставления грехов, а не богообщения31. Но при ответе на вопрос, в чем состоит действие освящающей благодати, автор пишет, что и рождение от Бога (1 Ин 3:9; 4:7), и новотворение человека (Еф 2:10), и приведение его в участие естества Божия (2 Пет 1:4), и оправдание силой Духа Божия (1 Кор 6:11) — все это различные образы единого действия благодати Святого Духа (Филарет Гумилевский, 1865, 187). Из этого следует, что и образы «усыновления» и «обожения» для святителя суть рядоположные составляющие спасительного домостроительства Духа32. Таким образом, обе наши категории для автора не имеют самостоятельного значения в домостроительстве спасения.
Епископ Сильвестр (Малеванский) в своем пятитомном догматическом труде (1878–1891) кратко останавливается на понятиях усыновления и обожения. Автор приводит мнения отцов Церкви о том, что «все люди сотворены Богом как Его дети»33, поэтому в них от начала заложено призвание любить Бога как Отца. Помимо этого, согласно Писанию, воля Божия определила людей к усыновлению Богу через Иисуса Христа и предназначила нас быть наследниками во Христе (Еф 1:5, 9, 11), что означает восстановление статуса сыновства (Сильвестр Малеванский, 1885, т. 2, 148). По мнению автора, такая способность сыновне любить Бога, а также способность к религиозному с Ним единению более всего приближает человека к Богу и уподобляет Ему (Сильвестр Малеванский, 1885, т. 3, 278). Изначальная от творения близость и сродство с Богом привлекает человека к единению с Ним. Человеческий дух «стремится к этому... единению, не лишенный возможности и надежды через свое стремление даже достигать, что составляет высокую тайну, самого внутреннего единения с Богом, или обὸжения»34. То есть автор предлагает модель, согласно которой обожение (начавшее осуществляться при совершении таинства Евхаристии35) есть предел Божественного замысла о человеке, а предусловием его реализации является усыновление36.
Последняя перед революцией академическая догматическая система прот. Николая Платоновича Малиновского была издана в 1895–1909 гг.37 В этом курсе содержится краткая и ясная формулировка значения воплощения Сына Божия для спасения, а также перечень спасительных плодов крестной жертвы, из чего явствует следующая авторская схема. Воплощение позволило осуществить предопределение об усыновлении нас Богу во Христе (Малиновский, 1911, 85); воплощение означает нашу общность со Христом не только по воипостазированной Им человеческой природе, но и по сроднению жизни с Ним как с Братом38; это теснейшее единство после принятия Духа усыновления содевает людей сынами Божиими и сонаследниками Христу; как сонаследники и дети Божии люди могут разделить все, что принадлежит Богу (Малиновский, 1911, 460–461). Обожение упоминается в этой «Догматике» только в одном параграфе39, но при этом из текста следует, что для автора «обожение» скорее спекулятивная богословская идея, а не факт внутренней жизни христианина. В тех случаях, когда автор говорит об «особенном приближении» к Богу, об общении праведников со Христом в загробной жизни (настолько теснейшем единения в здешней жизни, «что последнее, в сравнении с ним, может быть названо удалением от Господа»), которое будет сопряжено «с приближением праведных к Божеству, в нераздельности всех трех лиц Его» (Малиновский, 1911, 461), вероятно, под этим состоянием подразумевается то, что в его учебнике идентифицируется как обожение. Но нужно признать, что о. Николай не дает своего определения этому статусу, а то понимание, которое явствует из его слов («так как Он (Христос. — прот. А. Е .) есть едино с Отцом, то и верующие в Него по мере того как входят в общение с Ним, в Нем и через Него вводятся в общение с Богом до такой степени, что все делаются едино» (Малиновский, 1911, 444)) отличается от суждений отцов, на которые ссылается сам догматист40.
В заключение отмечу, что профессор Иван Васильевич Попов, провозгласив в последнее десятилетие синодальной эпохи, что идея обожения «в современном богословии является совершенно забытой» (курсив мой. — прот. А. Е. ), обнаружил тем самым нарушение преемственности в богословской школе, к которой сам принадлежал [Попов, 1909, 3]. Между тем, как было показано мною выше, память о призвании человека к обожению не уходила бесследно из церковного сознания и в синодальный период российской истории. После проповедей митр. Стефана (Яворского; XVIII в.) свидетельства о неизменности восприятия тайны спасения в святоотеческом духе встречаются, например, в «Аскетических опытах» свт. Игнатия (Брянчанинова) (1865). «Евангелие есть изображение свойств нового человека, который — „Господь с небесе“ (1 Кор 15:47). Этот новый человек — Бог по естеству. Святое племя Свое человеков, в Него верующих и по Нему преобразившихся, Он соделывает богами по благодати» (Игнатий Брянчанинов, 2010, 50).
Выше мною было оговорено, почему в этом исследовании не будет рассмотрено соотношение категорий «усыновление» и «обожение» с «освящением» у авторов академических курсов догматики синодального периода. Ограничусь лишь одним наблюдением. Во всех пяти догматических системах «освящение» является основной характеристикой для определения сотериологического назначения Церкви. При этом эта категория сближается с понятием оправдания41, а у прот. Николая Малиновского вообще освящение отождествляется с оправданием: «...оправдание состоит... в действительном уничтожении всего греховного в человеке, оправдание... является вместе и освящением. Оправдание и освящение, таким образом, в сущности совпадают» (Малиновский, 1912, 16–17). Тем самым обнаруживается некоторое категориальное смешение и невнятность, которое дополняется в этой области тем, что освящение предстает в догматике митр. Макария (Булгакова) как способ для соединения с Богом, то есть освящение есть сообщение спасаемому святости, освящающей благодати, а результат ее усвоения есть единство с Богом. Преосвященный автор пишет о том, что цель основания Церкви — «освящение людей-грешников, а затем — воссоединение их с Богом (Еф 4:11–13)»42 (Макарий Булгаков, 1883, 203). Но здесь в изложении недостает ясности, чтобы корректно утверждать тождественность этого построения модели «освящение — обожение». Ибо под «обожением» у отцов понимается не просто умозрительное «воссоединение» с Богом, но приобретение человеком по благодати свойств, которые присущи Богу по естеству.
Выводы
На этом следует подвести некоторые, пусть предварительные, итоги.
-
1. Можно констатировать, что при изложении домостроительства спасения в ос новных академических догматических системах синодального пе риода употребляется
-
2. При употреблении в исследованных нами курсах догматики понятия «обоже-ние» в общем виде появляется отеческая концепция причастности Богу (например, как это сформулировано в «Катехизисе» свт. Филарета (Дроздова)). При этом ученые авторы либо ограничивают этот статус человеческой природой в ипостаси Христа, либо несколько абстрактно относят его ко всему человечеству. Но не говорят вполне определенно о том, что обожение христианина есть не в переносном смысле понимаемое реальное приобщение к Богу всего человеческого естества.
-
3. Из патристического наследия вытекает (и регулярно проскальзывает в русских курсах догматики), что «обожение» без «усыновления» не пребывает («...в Духе Слово сподобляет славы тварь, [ ибо, ] обожая и всыновляя, приводит ее ко Отцу» (Афанасий Великий, 1994, т. 3, 38), см. выше сн. 11). Но при том эти два понятия несводимы тождественно друг к другу.
-
4. Во всех рассмотренных догматических системах основной сотериологической категорией выступает «освящение». При этом «освящение» фактически отождествляется с оправданием, что меняет характер богословского дискурса.
-
5. И хотя «освящение» в академических догматиках есть сообщение спасаемому освящающей благодати, а результат ее усвоения есть единство с Богом, все же нет возможности корректно утверждать, что таким образом подразумевается диадическая модель «освящение» — «обожение».
-
6. Эта «разомкнутость» отеческой диады «усыновление» — «обожение» через введение понятия «освящение» может объясняться тем, что в Новейшее время представление об обожении подверглось критике как проявление «эллинизации» восточного христианства (Шёнборн, 2003, 103). В западном христианстве эта концепция была осмыслена в рамках богословия блж. Августина, развившего учение об освящающей и спасающей благодати. При этом спасение стало мыслиться преимущественно в своем «негативном» аспекте: как процесс преодоления греха и его власти над человеком через оправдание и искупление. Превалирование такого фона налицо в рассмотренных мною академических догматических курсах Русской Церкви в предреволюционный век. В них те незначительные упоминания понятий обожения и усыновления в основном лишены утверждения их взаимосвязи, что лишний раз обнаруживает смещение акцентов сотериологии, содержащейся в догматических системах означенного периода. Следующий этап истории русской богословской мысли в ХХ в. характеризуется пристальным вниманием к разобранной здесь проблематике спасения.
интересующая нас пара понятий. Но их соотношение между собой никого из вышеупомянутых догматистов напрямую не интересовало, а патристическое учение об обо-жении (в связи с усыновлением) утратило актуальность в академической среде.
Список литературы "Обожение" и "усыновление": две модели спасения в трудах русских богословов-систематиков синодального периода
- Авва Дорофей (2003) — Авва Дорофей, прп. Душеполезные поучения. Клин: Изд-во Фонда «Христианская жизнь», 2003.
- Антоний Амфитеатров (1848) — Антоний (Амфитеатров), архим. Догматическое богословие Православной Кафолической Восточной Церкви с присовокуплением общего введения в курс богословских наук. Киев, 1848.
- Антоний Амфитеатров (1862) — Антоний (Амфитеатров), архим. Догматическое богословие Православной Кафолической Восточной Церкви с присовокуплением общего введения в курс богословских наук. Изд. 8. СПб., 1862.
- Афанасий Великий (1994) — Афанасий Великий, свт. Творения: в 4 т. [Репр. изд.] М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского м-ря, 1994.
- Афанасий Великий (2015) — Афанасий Великий, свт. Творения: в 3 т. М.: Изд-во Сибирская Благозвонница, 2015. Т. 1.
- Блж. Августин (2006) — Августин Аврелий, блж. Христианская наука, или Основания священной герменевтики и церковного красноречия. СПб.: ВЮЛЮПОЛЕ, 2006.
- Василий Великий (2008) — Василий Великий, свт. Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах // Василий Великий, свт. Творения: в 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2008. Т. 2.
- Григорий Богослов (1994) — Григорий Богослов, свт. Слово 40-е на Святое Крещение // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994. Т. 1.
- Григорий Нисский (1864) — Григорий Нисский, свт. Творения. М., 1864. Ч.'У!
- Дидахе (1992) — Учение двенадцати апостолов // Писания мужей апостольских. Рига: Латвийское библейское общество, 1992.
- Евфимий Зигабен (2017) — Евфимий Зигабен. Толковая Псалтырь. М.: ЭКСМО, 2017. С. 838-843.
- Игнатий Брянчанинов (2010) — Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты: в 2 т. М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2010. Т. 1.
- Иоанн Дамаскин (2002) — Иоанн Дамаскин, прп. Источник знания // Творения преподобного Иоанна Дамаскина / Пер. и коммент. Д. Е. Афиногенова, А. А. Бронзова, А. И. Са-гарды, Н. И. Сагарды. М.: Изд-во Индрик, 2002.
- Иоанн Златоуст (2003) — Иоанн Златоуст, свт. Беседы на псалмы. М.: Изд-во ПСТГУ, 2003.
- Иоанн Златоуст (2010) — Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна. М.: Сибирская Благозвонница, 2010.
- Ириней Лионский (1900) — Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. СПб., 1900.
- Иустин Философ (1862) — Иустин Философ, мч. Разговор с Трифоном Иудеем // Памятники древней христианской письменности. М., 1862. Т. 3.
- Климент (1892) — Климент Александрийский, свт. Строматы. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. Т. 2 (Книги 4-5).
- Николай Кавасила (1874) — Николай Кавасила, архиеп. Семь слов о жизни во Христе. М., 1874.
- Макарий Булгаков (1871) — Макарий (Булгаков), митр. Введение в православное богословие. СПб., 1871.
- Макарий Булгаков (1883) — Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие: в 2 т. 4-е изд. СПб., 1883. Т. 2.
- Малиновский (1909) — Малиновский Н.. П., прот. Православное догматическое богословие: в 4 т. Сергиев Посад, 1909. Т. 4.
- Малиновский (1911) — Малиновский Н.П., прот. Очерк православного догматического богословия: в 2 т. Сергиев Посад, 1911. Т. 1.
- Малиновский (1912) — Малиновский Н.П., прот. Очерк православного догматического богословия: в 2 т. Сергиев Посад, 1912. Т. 2.
- О книге (1844) — О книге называемой: Православное исповедание кафолической и апостольской церкви восточной [Петра (Могилы)]. СПб.: Тип. К. Жернакова, 1844.
- Ориген (1897) — Ориген. О молитве и увещание к мученичеству. СПб., 1897.
- Петр Дамаскин (2009) — Петр Дамаскин, прп. Исчисление добродетелей // Петр Да-маскин, прп. Творения. М.: Правило веры, 2009.
- Петр Могила (1900) — Православное исповедание кафолической и апостольской церкви восточной [митр. Петра (Могилы)]. М., 1900.
- Сильвестр Малеванский (1885) — Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт православного догматического богословия: в 5 т. Киев, 1885.
- Симеон Новый Богослов (2017) — Симеон Новый Богослов, прп. Слова богословские и нравственные. М.: Перервинская православная духовная семинария, 2017.
- Стефан Яворский (1804-1805) — Стефан (Яворский), митр. Проповеди блаженной памяти Стефана Яворского, преосвященного митрополита Рязанского и Муромского...: в 3 ч. М.: 1804-1805. Ч.2.
- Тертуллиан (1994) — Тертуллиан. О молитве. Пер. Н. Шабурова // Тертуллиан. Избранные сочинения. М.: Прогресс, 1994. С. 294-306.
- Тихон Задонский (1889) — Тихон Задонский, свт. О истинном христианстве // Тихон Задонский, свт. Творения: в 5 т. М., 1889. Т. 2, 3.
- Филарет Гумилевский (1865) — Филарет (Гумилевский), свт. Православное догматическое богословие: в 2 т. 2-е изд. Чернигов: Тип. Ильинского м-ря, 1865. Т. 2.
- Асмус (2002) — Асмус В.В., прот. К оценке богословия святителя Петра Могилы, митрополита Киевского // Богословский сборник. М.: ПСТБИ, 2002. Вып. 10. С. 224-241.
- Василий Кривошеин (1961) — Василий (Кривошеин), архиеп. Обзор существующих символических документов и вопрос составления нового // Журнал Московской Патриархии. 1961. № 11.
- Давыденков (2013) — Давыденков О., прот. Догматическое богословие. Учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.
- Иоанн Маслов (1995) — Иоанн (Маслов), схиархим. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. М.: Самшит, 1995.
- Карсавин (1994) — Карсавин Л.. П. О началах (Опыт христианской метафизики) // Карсавин Л. П. Сочинения / Под ред. А. К. Клементьева и С. Ю. Клементьевой. СПб.: YMCA-Press, Scriptorium, 1994. Т. 6.
- Коледич (2009) — Коледич Е. Н. Православная литературная традиция XVIII века в творчестве писателя Тихона Задонского // Дергачевские чтения — 2008. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Проблема жанровой номинации: Материалы IX Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 2009. Т. 1. С. 14-21.
- Корзо (2014) — Корзо М.А. Катехитические сочинения Феофана Прокоповича // Славянский Альманах: 2013. М.: Индрик, 2014. С. 263-280.
- Леонов А. — Леонов A.M. Догмат искупления в Православном богословии. URL: https://azbyka.rU/otechnic/bogoslovie/dogmat-iskuplenija-v-pravoslavnom-bogoslovii/2 (дата обращения: 13.01.2023).
- Леонов В. — Леонов В., прот. Обожение // Православная энциклопедия. 2018. Т. 52. С. 263-268.
- Лесур (2012) — Лесур Ф. Лев Карсавин и католичество // Лев Платонович Карсавин / Под ред. С. С. Хоружего. М.: Изд-во РОССПЭН, 2012. С. 396-427.
- Лисовой (2002) — Лисовой Н.Н. Обзор основных направлений русской богословской академической науки в XIX — начале XX столетия // Богословские труды. М., 2002. Вып. 37. С. 5-127.
- Мейендорф (2013а) — Мейендорф И., протопресв. Новая жизнь во Христе. Течения в сотериологии // Мейендорф И., протопресв. Пасхальная тайна: Статьи по богословию / Пер. с англ., фр. М.: Эксмо, ПСТГУ, 2013.
- Мейендорф (2013б) — Мейендорф И., протопресв. Человечество «ветхое» и «новое»: антропологические соображения // Мейендорф И., протопресв. Пасхальная тайна: Статьи по богословию / Пер. с англ., фр. М.: Эксмо, ПСТГУ, 2013.
- Мкртчян (2016) — Мкртчян М. Усыновление Богу. М.: Инф.-изд. центр «К Свету», 2016.
- Неллас (2011) — Неллас П. Обожение: Основы и перспективы православной антропологии / Пер с англ. Н. Б. Ларионова. М.: Никея, 2011.
- Никитина (2009) — Никитина С. В. Пять основных догматических систем РПЦ второй половины XIX — начала XX века: Понимание догмата, задач догматики и богословского метода // Электронный научно-богословский журнал студентов и аспирантов Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2009. Вып. I. С. 95-104. URL: https://azbyka.ru/pyat-osnovnyx-dogmaticheskix-sistem-rpts-vtoroj-poloviny-xix-nachala-xx-veka (дата обращения: 13.01.2023).
- Пеликан (2007) — Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения: в 2 т. Т. 1: Возникновение кафолической традиции (100-600). М.: Культурный центр «Духовная библиотека», 2007.
- Попов (1909) — Попов И.В. Идея обожения в древне-восточной Церкви. М., 1909.
- Поселянин (1908) — Поселянин Е. Русская Церковь и русские подвижники XVIII века. СПб.: Тип. Фроловой, 1908.
- Флоровский (1988) — Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия. Париж: YMCA-PRESS, 1988. [Репр. изд.].
- Флоровский (2000) — Флоровский Г.В., прот. Западные влияния в русском богословии // Флоровский Г.В., прот. Избранные богословские статьи. М.: Пробел, 2000.
- Хондзинский (2013) — Хондзинский П., прот. «Ныне все мы болеем теологией». Из истории русского богословия предсинодальной эпохи. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.
- Хондзинский (2017) — Хондзинский П., прот. «Церковь не есть академия»: Русское внеакадемическое богословие XIX века. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017.
- Чеботарева (2014) — Чеботарева Е. Э. Математические модели в гуманитарных и естественных науках: философская проблематизация / Санкт-Петербургское философское общество // Мысль. 2014. Вып. 17. С. 73-82.
- Червяковский (1876) — Червяковский П.А. Введение в богословие Феофана Прокоповича: Материалы для истории православного богословия в России. СПб., 1876.
- Шёнборн (2003) — Шёнборн К. Бог послал Сына Своего. Христология. М.: Христианская Россия, 2003.
- Gross (2002) — Gross J. The Divinization of the Christian according to the Greek Fathers. Trans. by Paul A. Onica. Anaheim, Calif.: A & C Press, 2002.
- Stephen (2007) — Stephen T. Deification in the Eastern Orthodox tradition: a biblical perspective. Piscataway, New Jersey: Gorgias Press, 2007.
- Blackwell (2011) — Blackwell B.C. Christosis. Pauline Soteriology in Light of Deification in Irenaeus and Cyril of Alexandria. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011.
- Russell (2004) — Russell N. The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition. Oxford University Press, 2004.
- Deification (2019) — Deification in the Latin patristic tradition / Ed. by J. Ortiz. Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 2019.