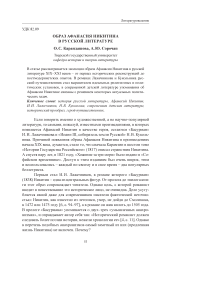Образ Афанасия Никитина в русской литературе
Автор: Карандашова Ольга Святославовна, Сорочан Александр Юрьевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эволюция образа Афанасия Никитина в русскойлитературе XIX-XXI веков - от первых исторических реконструкций до постмодернистских опытов. В романах Лажечникова и Кукольника русский путешественник стал выразителем идеальных религиозных и политических установок, в современной детской литературе упоминания об Афанасии Никитине связаны с решением некоторых актуальных политических задач.
История русской литературы, афанасий никитин, и.и. лажечников, н.в. кукольник, современная детская литература, исторический прообраз, герой-путешественник
Короткий адрес: https://sciup.org/146281571
IDR: 146281571 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Образ Афанасия Никитина в русской литературе
Если говорить именно о художественной, а не научно-популярной литературе, то самыми, пожалуй, известными произведениями, в которых появляется Афанасий Никитин в качестве героя, остаются «Басурман» И. И. Лажечникова и «Иоанн III, собиратель земли Русской» Н. В. Кукольника. Причиной появления образа Афанасия Никитина в произведениях начала XIX века, думается, стало то, что сначала Карамзин в шестом томе «Истории Государства Российского» (1817) описал странствия Никитина. А спустя пару лет, в 1821 году, «Хожение за три моря» было издано в «Софийском временнике». Доступ к этим изданиям был очень широк, этим и воспользовались – каждый по-своему и в свое время – два популярных беллетриста.
Первым стал И. И. Лажечников, в романе которого «Басурман» (1838) Никитин – одна из центральных фигур. От пролога до эпилога книги этот образ сопровождает читателя. Однако цель, с которой романист вводит в повествование это историческое лицо, не очевидна. Дело усугубляется явной даже для современников писателя фактической неточностью: Никитин, как известно из летописи, умер, не дойдя до Смоленска, в 1472 или 1475 году [6, с. 94–97], а в романе он жив вплоть до 1505 года. В прологе «Басурмана» упоминается о двух–трех «умышленных анахронизмах», и оправдывает автор себя так: «Исторический романист должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии ее» [4, c. 11]. Однако в перечень подобных анахронизмов самый заметный из них (продленная жизнь Никитина) не включен. Почему?
Первое указание легко обнаружить в прологе, когда Никитин навещает наследника престола Дмитрия Иоанновича и увеселяет его, рассказывая истории. Он «убог, но богат сведениями, собранными на пути в Индию» [Там же, c. 34]. Никитин нищ и живет подаянием за свои занятные рассказы. Купцу Афанасию и приписано «Сказание о некоем немчине», на котором основывается якобы автор романа. Конечно, рассказчиком может быть только человек со значительным багажом жизненных впечатлений, а у кого из россиян ХV века он был больше, чем у Никитина?
Но это не могло стать единственным основанием для «воскрешения». Сам прием «воображаемой рукописи» уже в то время не отличался новизной. Однако ее «автор», то есть Афанасий Никитин, действует и в основной части повествования. В восьмой главе первой части он появляется впервые как «сказочник и вестник». В доме боярина Образца он ведет речь в основном об обычаях индусов при султанском дворе. Лажечников почти буквально повторяет в этом эпизоде текст Софийской летописи [6, c. 46]. А непосредственно перед этим рассказом в романе описан двор царя Ивана III и его обычаи. Вроде бы между двумя рассказами нет ничего общего: в хоромах салтана все из золота, а царский двор состоит из «нескольких клетей» и семи ворот в нем нет. «Индеяне не едят никакого мяса», в отличие от русских, и т. д. [Там же, c. 79]. Но антитетичность этих картин снимается с прибытием в Москву главного героя книги – Антона Эренштейна. Он наблюдает Москву, и зрелище это не особенно приятно путнику. Дело не только в неприятных (скорее непривычных) лицах и в пространственной разбросанности столицы. Когда на глазах у Антона сжигают подозреваемых в отравительстве, поневоле вспоминаются индусы из «Хожения»: «Кто у них умрет, и они тех жгут, да и пепел сыплют на воду» [Там же, c. 28]. Впечатления двух путешественников весьма сходны: и в убожестве, и в великолепии им видится дикость, их поражают чужие лица и обычаи. И Никитин, и Эрен-штейн едут на Восток, только понимают под этим словом разные места. Таким образом, отчеты Никитина подготавливают читателя к восприятию эмоциональной реакции другого «басурмана» – Антона. Мотив путешествия, введенный в прологе, развивается и углубляется в основной части. Чужая культура воспринимается иноземцем неадекватно – этот тезис подтверждают и русский, и европеец. Никитин предваряет появление главного героя и действует с ним рядом.
Но этим роль Афанасия Никитина в романе не исчерпывается. Путешественник как бы раздвигает рамки произведения. Он движется на Юг и на Восток в хожении, он идет за покоряющим Тверь царем на Север, а в эпилоге направляется на Запад, но, не завершив пути, поворачивает назад. Все прочие персонажи путешествуют в романе лишь в одном на- правлении. Фиоравенти и Антону, приехавшим на Восток, не суждено вернуться назад. Правда, Схариа как будто вездесущ, он мечется между Западом и Востоком. Но еретик преследует цель распространить свое учение на Восток, и этой экспансии отдает все силы.
Никитин не таков, скрытых целей у него нет. Тверской купец путешествует сам по себе, по влечению души. В чем смысл этих масштабных странствий, связывающих все сюжетные линии? Здесь раскрывается глубинный смысл явления Никитина в «Басурмане». Афанасий мертв, он странствует между тем и этим миром, воскрешенный волей автора. Образ – единственный в книге – «надмирен». Никитин – воплощение вечного странника на земле, таков каждый человек. Мысль автора окрашена прямо религиозно (а учитывая сюжет романа – православно), но это не отменяет нахождения художника в рамках мистической традиции. Введение «трансцендентного» героя как нельзя лучше соответствует поэтике романа Лажечникова, где история соединяется с возвышенностью чувствований, а реальность значительно дополнена воображением художника.
Адекватнее оценить роль данного исторического образа в художественном повествовании мы сможем, обратившись к более позднему и менее известному примеру. Н. В. Кукольник в романе «Иоанн Ш, собиратель земли Русской», как уже было сказано, также обращается к образу тверитянина. Следует отметить, что в начале 1850-х Н.В. Кукольник написал более трети романа; закончил текст после смерти Кукольника известный беллетрист П. Н. Петров; в этой редакции роман был издан в 1874 году. Основные события с участием Никитина разворачиваются как раз в начальной части книги. Кукольник как бы продолжает роман Лажечникова, неоднократно упоминая лекаря Антона, зодчего Аристотеля и других персонажей «Басурмана». Действие книги «Иоанн III…» разворачивается в 1487–1505 гг. Нетрудно заметить, что Кукольник повторяет «ошибку» предшественника, «воскрешая» Никитина, что было замечено уже при первых изданиях романа. В нашу задачу не входит анализ различий в трактовке исторических событий у романистов (оставим это историкам). Интересно другое: в романе Кукольника Никитин умирает задолго до 1505 года. Вернувшись из странствий, он рассказывает царю о своих впечатлениях. На сей раз романист изменил летописный текст. Эти эпизоды преследуют совершенно иную цель, нежели в «Басурмане». Царь именует Никитина «достойным человеком» [3, c. 19], и его опыт используется в затеянном посольстве к Менгли-Гирею, в которое Никитин (согласно историческим данным, никак не связанный с официальной властью) отправляется в качестве наставника одного из героев книги – князя Василия Холмского.
Романист не видел иного пути деятельности для путешественника, демонстрируя значительную инерцию мышления. Дипломаты посещают и Крым, и волошского деспота. Здесь и умирает Никитин – совершенно неожиданно для читателя. Поскольку объяснения его болезни не дается, можно предположить и злой умысел противников Холмского, и вообще что угодно. Да и связан ли умерший во второй части романа персонаж с основным сюжетом? На первый взгляд, сомнительно. Но, говоря о романе Кукольника, нельзя забывать о его формальном своеобразии. Здесь много от драматургии: изобилие диалогов, скупые авторские ремарки, сложность раскрытия душевных движений. И романист находит весьма своеобразный выход. Он придает каждому персонажу некую «маску», в функции которой чаще всего выступает общественный статус и вынуждает героев в соответствии с этим статусом действовать. Представления Кукольника о социальных ролях своеобразны, но исторический Никитин не может быть вписан в их узкие рамки, и это писателю очевидно. И в романе специально для него создается статус «ментора», учителя. Само произведение в сюжетной линии князя Холмского приобретает черты «романа воспитания». Герой проходит жизненную и политическую школу под руководством Никитина. Его учитель – не историческая личность, это мудрец, изрекающий сентенции, показывающий чудеса такта, дипломатии и сообразительности. А когда «школа» героем пройдена – в менторе нет необходимости. И автор с ним расстается.
Посольство, описанное в романе, с предшествующим странствованием Афанасия имеет мало общего. Здесь перед ним цель государственной важности, исполнение царского указа. Рассказы об историческом хожении в этой связи отходят на второй план, в них большей частью раскрываются экзотические «поучительные» обычаи и превосходные качества русской империи по сравнению с восточными.
Чем же объяснить «воскрешение» Никитин у Кукольника? Видимо, опыт отправившегося за три моря купца казался романисту уникальным. И привлечение экзотического культурно-исторического фона должно было утвердить высокое предназначение России и ее превосходный статус. Прогресс России – вот что занимает автора прежде всего. Понятие о прогрессе у него весьма одиозное, что воплощено во всем творчестве Кукольника (в его романах и пьесах). И Никитин – воспитатель героя – только подтверждает тезис о высшей цели отечества и превосходстве его монархического пути.
Таковы два случая использования образа Афанасия Никитина художниками–романистами в XIX веке. Каждый из них стремился добиться собственных целей, и персонаж становился выразителем определенных религизно-мистических (в первом случае) и политических (во втором) идей. Но в обоих случаях реальность исторического факта и конкретно-исторического героя разрушалась за счет вымысла.
Отступления от этой реальности многообразны. Лажечников достаточно полно изложил позицию беллетриста: «Его дело не быть рабом чисел: он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя ее, которых взялся изобразить… Миссия исторического романиста – выбрать из них самые блестящие, самые занимательные события, которые вяжутся с главным лицом его рассказа, и совокупить их в один поэтический момент своего романа. Нужно ли говорить, что этот момент должен быть проникнут идеей?» [4, c. 11]. «Занимательное» путешествие тверского купца, несомненно, казалось важным при художественном воссоздании эпохи. Образ, созданный авторами, в чем-то схож с реальностью истории – и только. Отметим, что это было время становления жанра исторического романа, и в данном случае вольное обращение с фактами закономерно и даже необходимо – это освобождало фантазию писателей и сообщало исторической прозе особую энергетику.
Проза обоих романистов в данном случае раскрывает интересную тенденцию: реальный герой воскрешен вопреки «правде», но он уже не равен себе, поскольку выполняет в сюжете некую высшую роль. Реальный тверской путешественник становится подлинно «надмирным» персонажем, удаляющимся от исторического прообраза.
В советские времена образ Афанасия Никитина мало интересовал писателей, что во многом понятно: он не подходил в качестве героя эпохи (купец, герой-одиночка и т. д.). Исключением стал написанный «по государственному заказу» сценарий А. Аббаса и М. Смирновой, где утверждается приоритет Никитина в открытии Индии [1]; европейский путешественник Мигуэль оказывается главным антагонистом героя. Но в последнее время образ Афанасия Никитина вдруг оказался снова востребованным, правда, в детской и подростковой литературе.
Так, в частности, в 2005 г. Екатерина Мурашова (современная писательница для детей и подростков) издала книгу, адресованную детскому читателю: «Афанасий Никитин: повесть о тверском купце». В ней Афанасий Никитин предстает как очень опытный, много повидавший в жизни человек, с детства воодушевленный мечтой освоения других земель, при этом страстно любящий свою Родину православный патриот. Так, например, герой повести размышляет: «Пока в чужих странах был, наверное, уж и деревья выросли… А у дома кустов сирени насадить. Дивно сирень росным утром пахнет, ни с чем тот запах не сравнить… Выйдешь летом к заутрене, глянешь на мир с крылечка расписного: солнышко восходящее на золотых куполах играет, колокол малиновым звоном душу гладит, сиреневый дух снизу восходит… Вот так бы и жить… Афанасий до хруста сжал кулаки, глянул в узкое оконце. За окном стеклянная осенняя ночь, чужие смоляные запахи, откуда-то доносится визгливая перебранка на чужом языке да тоскливая песня припозднившейся цикады…» [5]. Автор проводит параллель между родным краем, Россией и Востоком, чужим для героя, и сравнение это явно не в пользу последнего.
И квинтэссенция повести: «“Разные есть на свете страны, и все они хороши, – <…> записывает Никитин в свою тетрадь. – Всем они обильны, но нет прекрасней Руси! Пусть хранит ее Бог! На всем свете нет страны, подобной ей!”, – и опять пишет… Слишком много вер и обычаев он узнал, слишком много стран, городов и храмов посетил. – “А правую веру Бог ведает, – записал он недавно в тетради. И сейчас слова его, слова любви к Родине, единственной и неповторимой, вырываются из самого сердца. – Да станет земля русская благоустроенной! Господи, сохрани ее! Боже, Боже, Боже!”» [Там же]. Повесть носит ярко выраженный воспитательный, дидактический характер, даже зачастую назидательный. Автор использует «Хожение» Никитина, пересказывая его, но вносит изрядный элемент моралистики, интерпретируя образ тверского купца на современный патриотический манер, исходя из прямолинейно-воспитательной задачи. Поэтому заканчивается эта повесть следующими словами автора: «Много стран посетил Афанасий Никитин, но больше всех любил он свою родину, Русь. И спустя много лет в России помнят светловолосого купца-путешественника, мудрого и внимательного наблюдателя чужих народов и обычаев. А на берегу Волги, в Твери, там, откуда полтысячи лет назад начал свое путешествие Никитин, стоит памятник этому замечательному русскому человеку. Смотрит Афанасий на родные просторы и улыбается чуть заметной улыбкой. Все-таки он вернулся домой!» [Там же]. Автор метафорически «воскрешает» Афанасия Никитина, перенося его в современность, тем самым приближая его к нынешнему читателю-ребенку и создавая жизнеутверждающий, оптимистический финал повествования.
Другим показательным примером использования образа Афанасия Никитина в наше время является сценарий анимационного фильма «Хождение за три моря» Максима Ардашева. В кратком изложении сценарий мультфильма «Хождение за три моря» представляет собой историю о псе Шише, ищущем своего любимого хозяина – тверского купца Афанасия Никитина, которого он потерял на восточном рынке во время их путешествия в Индию. Афанасий Никитин здесь также изображается как исключительно положительный герой, но его образ и его путешествие являются фоном для приключений и философских исканий собаки, которая по сюжету неоднократно спасает своего хозяина и от рабства, и от гибели. В итоге получается довольно захватывающая и поучительная история о любви, верности и преданности. Заканчивается сценарий Ардашева, как и положено в мультфильмах, счастливым финалом, возвращением собаки с хозяином домой и словами Никитина о том, что самое главное богатство, которое он приобрел за время своего путешествия, это его друг – пес [2]. Таким образом, история путешествия Афанасия Никитина становится фоном для раскрытия совсем иных проблем, важных для современного ребенка: дружбы, верности, отваги, доброты, поисков себя, столкновения личных интересов с интересами других и т. п.
И еще на одно характерное явление современной, постмодернистской литературы хотелось бы указать – использование известного в истории, культуре и предшествующей литературе имени, по сути оторванного от прообраза. Таким примером может послужить серия книг Евгения Гаглоева: «Афанасий Никитин и Создатель механизмов», «Афанасий Никитин. Повелитель ящериц» и т. д. Это детские приключенческие произведения в жанре фэнтези, главным героем которых является подросток Афанасий Никитин; попадая из реального мира в фантастический, подвергаясь испытаниям и совершая приключения, он разгадывает загадки прошлого, находит древние артефакты и в итоге так или иначе «спасает мир». Здесь от реального Афанасия Никитина остается, по сути, только имя и сам факт путешествия как таковой. Герой-путешественник становится функциональным персонажем.
Об авторах:
Tver State University the Department of History and Theory of Literature
Список литературы Образ Афанасия Никитина в русской литературе
- Аббас А., Смирнова М. Афанасий Никитин (литературный сценарий) // Искусство кино. 1965. № 7. С. 34-82.
- Ардашев М. Хождение затриморя: Сценарий [Электронныйресурс] //Проза, ру. URL: https://www.proza.ru/2015/07/18/625. (Дата обращения: 10.02.2020.)
- Кукольник Н.В. Иоанн III, собиратель земли Русской. М.: Современник, 1995.427 с.
- Лажечников И. И. Басурман. М.: Худож. лит, 1989. 366 с.
- Мурашова Е. "Афанасий Никитин". Повесть о тверском купце [Электронный ресурс] // E-libra. URL: https://e-libra.ru/read/429801-afanasiy-nikitin.html. (Дата обращения: 10.02.2020.)
- Хожение за три моря Афанасия Никитина. Л.: Наука, 1986. 214 с.