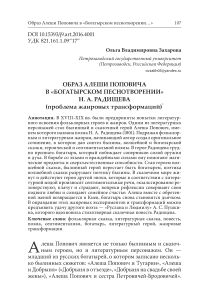Образ Алеши Поповича в "Богатырском песнотворении" Н. А. Радищева (проблема жанровых трансформаций)
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В XVIII-XIX вв. были предприняты попытки литературного освоения фольклорных героев и жанров. Одним из литературных персонажей стал былинный и сказочный герой Алеша Попович, именем которого названа поэма Н. А. Радищева (1801). Подражая фольклорным и литературным жанрам, начинающий автор создал оригинальное сочинение, в котором дан синтез былины, волшебной и богатырской сказки, героической и сентиментальной поэмы. В герое Радищева трудно признать богатыря, который побеждает соперников силой оружия и духа. В борьбе со злыми и враждебными силами ему помогают магические предметы и сверхъестественные способности. Став героем волшебной сказки, былинный герой перестает быть богатырем, поэтика волшебной сказки разрушает поэтику былины. В сказочном мире живут и действуют герои другой эпохи, которые в соответствии с литературной модой произносят сентиментальные речи, экзальтированно резонерствуют, плачут и страдают, вопреки рефлексии совершают свои подвиги любви и созидают семейное счастье: Алеша вместе с обретенной женой возвращается в Киев, богатырь снова становится дьячком. В оправдание этих жанровых экспериментов и трансформаций можно предъявить удачу другого поэта - «Руслана и Людмилу» А. С. Пушкина, которого вдохновила стихотворная сказочная повесть Радищева.
Фольклорная сказка, литературная сказка, повесть, поэма, сентиментализм, богатырь, литературный герой, жанровые трансформации
Короткий адрес: https://sciup.org/14748959
IDR: 14748959 | УДК: 821.161.1.09“17” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.4001
Текст научной статьи Образ Алеши Поповича в "Богатырском песнотворении" Н. А. Радищева (проблема жанровых трансформаций)
А л еша Попович является не только былинным и сказочным героем, но и литературным персонажем. Он — младший из русских богатырей, о котором записано несколько былинных сюжетов: «Алеша Попович и Тугарин», «Алеша и Добрыня» («Добрыня в отъезде», «Добрыня на свадьбе своей жены»), «Алеша Попович и сестра Петровичей-Бродовичей».
Отличительными чертами героя являются «ловкость, удальство, бесшабашная храбрость и вместе с тем особая жизнерадостность, лукавство и задор» [17, 344]. Анализируя образ Алеши в былине «Алеша Попович и Тугарин», исследователи отмечали легкомысленность, смелость Алеши [12, 211]. Он является «обыкновенным человеком», «вполне реальным человеком», который обладает задатками характера: «Алеша способен на проявления буйного гнева, но он и насмешник, весельчак. Он умеет скрыть гнев за ядовитой шуткой, выводящей из себя его противника» [19, 40–81]. В сюжете былины «Алеша и Добрыня» герой представлен «бабьим пересмешником». В былине «Алеша и сестра Петровичей» герой является спасителем девушки, освобождает ее из заточения и берет в жены.
Прозаические тексты об Алеше Поповиче опубликованы в сборниках как былин, так и сказок. Некоторые из прозаических текстов являются пересказами былин, утратившими стихотворную форму, но сохранившими «былинную фразеологию и интонацию», другие, сохраняя сюжет, приобретают черты сказочной поэтики (структуру, стиль, мотивы) [3, 3]. По мнению А. М. Астаховой, «само освобождение от стихотворной формы уже создает условия для переключения сюжета в художественную систему сказочного жанра» [3, 3]. Во многих текстах сохраняются основные мотивы былинных сюжетов «Алеша и Тугарин», «Алеша и Добрыня». Вместе с тем в них есть сказочные контаминации сюжетов «Пойди туда, не знаю куда» и «спор о верности жены», в которых Алеша является второстепенным персонажем, «бабьим пересмешником» (см., напр., сказки № 313 и 314 из сборника Афанасьева [4]).
Наряду с фольклорным освоением образа героя, в русской словесности были предприняты попытки создания литературного образа Алеши Поповича.
Характеризуя русскую литературу XVIII — начала XIX веков, И. Булкина замечает, что «история в большинстве случаев шла здесь об руку с мифологией (“баснословием”), “историческая повесть” находилась в той же плоскости, что и сказка. “Русские сказки” и подобные им популярные сочинения Чулкова, Попова и Левшина находились в прямой зависимости — жанровой и сюжетной — от западноевропейского “галантного романа”, и из того же “баснословного” источника брали свое начало первые опыты несостоявшегося “русского эпоса” — сказочно-богатырские поэмы Хераскова и Львова, Карамзина и Радищева» [7, 80].
В 1801 году поэт и переводчик Николай Александрович Радищев (1779–1829) издал две поэмы «Альоша Попович, богатырское песнотворение» и «Чурила Пленкович, богатырское песнотворение. В двух частях».
В этих произведениях выразилась одна из тенденций в развитии русской литературы конца XVIII — начала XIX веков, в которой решалась задача создания национального литературного эпоса. Подражая героическим поэмам Гомера, Вергилия, Ариосто и Виланда, следуя русским адаптациям античных традиций (И. Ф. Богданович), фольклорных сказок и былин (М. Д. Чулков, Н. М. Карамзин), начинающий автор пытался создать оригинальные национальнопатриотические произведения. А. С. Пушкин невысоко оценил это произведение, в котором нет «и тени народности, необходимой в творениях такого рода» [13, 216].
Исследователи отмечают влияние на «Альошу Поповича, богатырское песнотворение» «Русских сказок» В. А. Левшина и «Ильи Муромца» Н. М. Карамзина [5]; [11]; [18]. Заимствования Радищевым из «Русских сказок» Левшина проанализированы И. П. Лупановой [11], М. А. Гистер [9].
Подробно и обстоятельно рассмотрен вопрос о влиянии Радищева на поэму «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина [8]; [15]; [14]; [2]; [1]; [18]. Эта точка зрения была опровергнута в работе А. Слонимского, который видел причину сходства «богатырского песнотворения» Радищева и поэмы А. С. Пушкина в общих мотивах «волшебно-рыцарских и сказочной» литератур [16, 193].
Взаимодействие былины, волшебной сказки и «индивидуально-авторского литературного творчества» в богатырских песнотворениях Радищева рассмотрено в статье И. Л. Щедрина [18, 39], который отмечает «снижение роли былинного начала» в них: «Жанрами-посредниками выступила летопись, на которую оказали определенное влияние фольклорные источники (то есть былина), а также литературная прозаическая богатырская сказка второй половины XVIII века (прежде всего, В. А. Левшин, чьи произведения, в свою очередь, были созданы под влиянием М. Д. Чулкова)» [18, 44]. Для исследователя богатырские поэмы и богатырские сказки — синонимичные понятия, сам же он определяет жанр произведений Радищева как «богатырские сказки», которые синтезируют традиции «Русских сказок» Левшина и богатырской поэмы Н. М. Карамзина «Илья Муромец».
Эпиграфом к богатырскому песнотворению Радищев выбирает первую строку из поэмы Вергилия «Энеида», чем задает тон всему произведению: «“Оружие пою и мужа” (Эней, книга 1)» 1 . Автор воспевает богатыря и его подвиги, он подражает Вергилию: «Альошу древняго пою: / Внуши, Альоша! пѣснь мою» (3). По мнению Т. И. Акимовой, Радищев вводит «зачин», «противоположный сложившейся традиции», и «обращается не к Музе, а к главному действующему лицу» [1, 110].
Автор несколько раз использует несвойственную для фольклора форму имени богатыря Алексей. Его Алеша юн, весел, но мало похож на былинного богатыря. Он сомневается в своем предназначении, после первого поражения сознает, что напрасно отказался от прежнего ремесла и решил стать богатырем. Активное участие в судьбе героев принимают боги, они подчиняют их своей воле, дают советы, одаривают Алешу волшебными предметами (перстень, плеть), при помощи которых он одолевает врагов. Как и в античном эпосе, несчастья героев объясняются столкновением интересов богов.
Алеша в песнотворении Радищева рожден в Киеве, его отец — «жрецъ Перуна». Он так рассказывает о своей жизни:
Я вмѣстѣ съ нимъ богамъ служилъ;
За то намъ дань была обильна,
Въ довольствѣ, въ роскоши я жилъ. Я зналъ лишь жертвы закалать, Себя отъ олтаря питать (10).
В языческом храме Перуна он «воспевал» «стихеры», а противник, полонивший Алешу, называет его с насмешкой
«церковникомъ», «псаломщикомъ». Причиной тайного бегства из родительского дома является зародившееся в душе Алеши сомнение в своем предназначении. По мнению И. Булкиной, «характером героя (противоречивого дьячка-богатыря) Радищев-сказочник в большей степени обязан Карамзину и его “Илье-Муромцу”» [7, 107]; [6].
В шаблонном литературном стиле автор описывает выезд Алеши:
Златой <…> шлемъ горитъ въ огнѣ (3), Подъ шлемомъ волосы чернѣютъ, Вiясь падутъ по раменамъ;
Глаза блистаютъ и свѣтлѣютъ, Подобясь жаркимъ двумъ звѣздамъ. Онъ прямъ и строенъ такъ, какъ кедръ, И мечь виситъ пониже бедръ.
Въ десной его копье златое,
А въ шуей крѣпкой черной щитъ,
На коемъ знаменье святое, Изсѣченъ богъ Перунъ сидитъ. Броня желѣзна кроетъ грудь (4).
В чаще Алеша наезжает на Витязя. Радищев называет обоих рыцарями. Победа в поединке соперников оказывается за Витязем, который берет Алешу в плен: «Я дней твоихъ теперь властитель: / Прощаю дерзкому — возстань! / И вѣчно буди рабъ ты мой; / Вкуси смиренно жребiй свой» (7).
Читатель же видит «дерзкого» Алешу иным, чувствительным и слезливым юношей: «огорченной, / Не смѣлъ окрестъ себя взглянуть», «Въ молчаньѣ горестномъ онъ былъ, / Закрывшись тихо слезы лилъ» (7).
В рабстве Алеша встречается с товарищем, женоподобные черты которого вызывают у богатыря сначала удивление, а потом изумление. Преображение «товарища» воспламеняет в сердце Алеши любовь:
Сей юноша снялъ шлемъ высокой —
Упали русые власы;
Сей юноша голубоокой
Явилъ прелестныя красы.
Се дѣва юна предстоитъ —
Въ Альошѣ кровь уже горитъ (12).
Пытаясь найти способ освобождения девы и себя, влюбленный герой решается на хитрость:
Храпяща Витязя сурова
Безъ страха онъ тогда узрѣлъ.
Онъ вервь тихонько наложилъ, И руки твердо прикрѣпилъ. По томъ связалъ и быстры ноги, Тянулъ ко древку ихъ плотнѣй (14–15).
Они бегут и уводят с собой всех коней, чтобы предотвратить погоню.
В песнотворении герой ведет себя не как богатырь, а как литературный герой. Автор подробно описывает его чувства, переживания и манерные страдания.
Найдя приют в густом и мрачном лесу, Алеша открывает свои чувства девице, признается в любви. Девица отвечает ему восторженной взаимностью:
Спаситель мой великодушной!
Скажи, чемъ я тебѣ воздамъ?
О юноша ты добродушной!
Тебѣ какую плату дамъ
За то, что ты рукой своей
Хранишь дни юности моей?
Ахъ! я себя на вѣкъ вручаю Во власть, о юноша! твою; Тебѣ быть вѣрной обѣщаю — Прими и руку ты мою.
Когдабъ я больше что могла, И тѣмъ тебѣ бы воздала (18).
Окрыленный взаимностью, Алеша возносит хвалу Перуну. Как истинный рыцарь герой падает на колени перед возлюбленной и пылко клянется в вечной любви. Девица рассказывает Алеше о себе: зовут ее Людмилой, она является дочерью Новградского посадника Добросила, когда ей исполнилось девятнадцать лет, любовью к ней воспылал Челу-бей — победивший Алешу Витязь, сын Яги и Беса Астарота. Людмила отказала Челубею, тот хитростью и волшебством похитил ее: обернувшись соловьем, пением прельстил Людмилу, сел ей на плечо, превратился в орла и унес. Героиня называет Челубея колдуном, который внушает ей жуткий страх. Алеша, «любовникъ нѣжной, страстной» (27), готов пожертвовать жизнью ради возлюбленной. Он надеется найти спасение в Киеве, где хочет стать жрецом Перуна. По дороге в Киев Алеша и Людмила заезжают в храм Лады, в котором жрица соединяет влюбленных, предвещает им тяжелую судьбу и дает супругам совет:
Бѣды старайтеся сносить;
Въ бѣдахъ васъ Небо испытаетъ, Чтобъ больши радости родить, Въ нещастныхъ, томныхъ дняхъ своихъ Съ терпѣньемъ преносите ихъ (31).
Алеша готов защитить жену и свой брак. Жрица одаривает Алешу чудесным кольцом, благодаря которому он может …преобращаться
Во всякой станъ, во всякой видъ, Невидимымъ отъ всѣхъ скрываться, И защищаться отъ обидъ;
Старайся только твердымъ быть, Боговъ въ нещастьяхъ не винить (33).
Фабула песнотворения никак не связана с жанровым содержанием былины. Повествование Радищева раскрывает фабулу волшебной (вариант: богатырской) сказки или сказочной повести. Фигура богатыря, по-другому «рыцаря», сказочна. Он не может одолеть своих соперников без помощи волшебства и магических предметов. Герои Радищева действуют не только как сказочные фольклорные, но и как литературные герои, которые живут в новой художественной эпохе. Автор изображает своих героев чувствительными и сентиментальными. По каждому поводу герои произносят мелодраматические речи, экзальтированно резонерствуют, плачут, рыдают.
Беда настигает супругов на третью ночь, когда они уже увидели башни Киева. Невидимый для супругов, Челубей следует за ними, насылает на них «тяжкой сонъ», отмщая Алеше его же способом: привязывает его к дубу и похищает спящую Людмилу.
Радищев призывает читателя сочувствовать и сострадать переживаниям героев. Автор описывает, как Алеша обнаружил исчезновение Людмилы — никто не идет к нему на помощь, даже природа враждебна к герою:
Лазурь померкла ясна свода, Порывомъ буйной вихрь своимъ Предъ грозной бурею течетъ, Древа изъ корней крѣпкихъ рветъ.
Сгустилась паче мгла ночная, Во слѣдъ катится грому громъ. Порывъ вихрь быстрой умножая, Играетъ дубомъ какъ перомъ (41).
Буря не страшит Алешу, он призывает ее прервать его муки, обращается к богам и Перуну с вопросом: в чем его вина, чем он прогневал их. Буря рушит дуб и освобождает героя, который находит коня и, проливая слезы, отправляется на поиски супруги. В пути он встречается со старцем, который призывает смириться, не хулить богов, а молиться им. Старец делится с Алешей познаниями из «волшебной книги». Напоминая о судьбе Орфея, старец предупреждает Алешу, чтобы тот не прикасался и не лобызал супругу, а только соглядал «ея прелестныя красы», иначе «погибнешь купно съ ней; / На долго разлученъ пребудешь / Съ супругой милою своей» (47).
При помощи волшебного перстня Алеша переносится в стеклянный чертог, в котором находится Людмила. Он забывает совет старца, заключает Людмилу в объятья, и в этот миг появляется Челубей:
Чертогъ потрясся, заскрыпѣлъ, И громъ надъ ними возревѣлъ. Се входитъ Челубей яряся, Огнями, бурей окруженъ;
Вокругъ его змiя вiяся
Простерла хвостъ вкругъ твердыхъ стѣнъ (49–50).
Алеша побеждает змея, но на богатыря нападает Челубей. Алеша воспользовался волшебным перстнем: превратился в мышь, Челубей — в кошку, бросился за ним, но потерял след. Людмила, решив, что супруг погиб, бросается в окно. От гибели ее спасают боги, она бежит следом за Алешей. Они снова обретают друг друга, пытаются скрыться от Челубея. Алеша превращается в коня, Людмила садится на него верхом. В один из дней перед ними вырастает стена, через которую Алеша не может ни перескочить в виде коня, ни перелететь в образе сокола. Окружающая их со всех сторон стена оказывается чарами Астарота, который поклялся помочь Челубею разлучить влюбленных. Вид стены наводит ужас на героев. Автор подробно описывает их переживания, терзания, слезное прощание с жизнью. В этот момент Астарот разлучает супругов. Несмотря на сопротивление, бес украл Людмилу: топнул ногой, земля разверзлась, и они провалились в бездну.
Алеша пытается их догнать, но безуспешно, опять впадает в уныние, решается на самоубийство, в этот момент является старец, который открывает ему способ спасения Людмилы. Он одаривает Алешу новым оружием — плетью, которая поможет ему одолеть беса.
С помощью перстня герой добирается до мрачного леса, известного «множеством чудес», в котором находится храм в честь враждебного ему бога Ния. В храме в виде старца ему является поляк Твердовский.
Ряд выразительных деталей этой встречи Радищев заимствует из «Повести о Алеше Поповиче — богатыре, служившем князю Владимиру» из сборника В. А. Левшина «Русские сказки».
|
Великой стук поднялся в капище, двери растворились настечь, и толстый поляк начал выглядывать из оных. «А! Господин хозяин! — сказал богатырь. — Не прогневайся, что я без спросу остановился здесь. Я думал, что дом этот пустой.» Поляк скрыпел на него зубами. <…> Поляк вместо ответа, бро-сясь ему под ноги, зачал кусать . Богатырь, рассердясь, поимал его за волосы, зачал таскать и бить пинками; однако поляк не дал ему удовольствовать гнев, вырвался и ушел в капище. <…> Но неугомонный житель капища не дал ему покою. Едва зачал он засыпать, сей вышел опять, положил ему голову на брюхо и приготовлялся ногтьми своими выдрать ему глаза; но голова его имела действие огня. Богатырь, почувствовав жжение, вскочил в ярости, оттолкнул прочь голову толь сильно, что поляк отлетел стремглав в стену и хотел уйти. Но Алёша, схватив саблю, ударил оною по голове. Удар сей был жесток, камень бы расселся от оного; но из головы мертвеца посыпались только искры, и провалился он сквозь пол… [10, 86] (курсив мой. — О. З .) . |
Видѣнье странно вдругъ выходитъ, Носяще старца древня видъ; Оно къ Альошѣ взоръ возводитъ, И грозно челюстьми скрыпитъ (курсив мой. — О. З .) . Ступай отсель! оно речетъ, Иль страшной адъ тебя пожретъ. — Не очень я тебя боюся! Альоша смѣло отвѣчалъ; Скорѣе въ гробъ я поселюся, Чемъ отъ тебябъ я побѣжалъ — И чудо треснулъ кулакомъ, Такъ, что глухой раздался громъ. * Старикъ, вздрогнувъ отъ заушенья, Хотѣлъ Альошу укусить ; Но вновь страшася пораженья, Возмнилъ его уговорить, Чтобъ онъ скорѣй изъ храма шелъ; И тутъ упорство въ немъ нашелъ. * Ударомъ Витязь отвѣчаетъ На грозно слово старика; Тузя его, онъ возглашаетъ: Уже ль нашелъ ты дурака, Чтобъ безъ побѣды я пошелъ, Тебябъ простерта здесь не зрѣлъ? * Видѣнье вырвалось, бѣжало; Альоша въ слѣдъ его тузилъ; Оно стенаньи испускало, Его онъ плетью въ выю билъ. Видѣнье скрылось отъ него Во тьмѣ жилища своего (68–70). |
Алеша прогоняет старика ударами плети. Решив, что бес побежден, «съ надеждой сладостной» герой продолжил путь.
В пути Алеша встречает нищего, который рассказывает ему свою историю. Этот эпизод также заимствован из «Повести о Алеше Поповиче — богатыре, служившем князю Владимиру» из сборника В. А. Левшина. Радищев лишь меняет имя беса, которому Твердовский закладывает дочь. У Левшина его имя Велзевул, а у Радищева — Астарот.
Нищий кратко рассказывает Алеше свою историю, в которой обнаруживаются совпадения с историей шляхтича из повести Левшина.
|
«Жених твой тебе помочь не будет в состоянии. Я сожгу в сию ж минуту все его имение…». Он исчез; я лишился всего моего имения внезапным пожаром [10, 87]. |
Ахъ, сильной богатырь, могучiй! Я только годъ, какъ въ бѣдность впалъ; Отечество мнѣ лѣсъ дремучiй, Я имъ недавно обладалъ: Но житель капища, что зрѣлъ, Меня во бѣдство тяжко ввелъ (72). |
|
Сей поляк назывался Твердовский, оставил после себя несказанное богатство, и невеста моя единая оному наследница. По смерти его, познакомился я с оною. Мы восчувствовали взаимную склонность, и брак долженствовал соединить нас в назначенный день. Приуготовлялись уже к торжеству, и невеста моя находилась в преогромном доме своем, отстоящем отсюда верстах в тридцати. В самую полночь предстал пред нею дух отца ее с страшным и гневным лицем. «Знаешь ли ты, — говорил он ей, — что я заложил тебя еще маленькую адскому князю Велзе-вулу? А ты хочешь вступить в брак без ведома господина твоего. Слушай! Ты и жених твой должны дать обязательство сему дьяволу на свои души, если хочете совершить ваше супружество. С сего часа дом сей и все мое богатство отдаю я во власть оного Велзевула…» [10, 87]. |
Онъ мертвъ назадъ тому три года, Но тѣнь его еще живетъ; Его страшится вся Природа, Дрожитъ, робѣетъ цѣлой свѣтъ. Я милу дочь его люблю, Для ней нещастiе терплю. * Едва хотѣлъ я сочетаться Съ любезной красотой моей, Какъ началъ сей мертвецъ являться Во прежней храминѣ своей; Онъ Астароту дочь вручилъ, Ему на вѣки заложилъ (72). |
|
Невеста моя не имеет пропитания, понеже все сокровищи ее лежат в доме, в коем всякую ночь привидения нагоняют на всех ужас и всех покушавшихся входить в дом тот, хотя днем, хотя ночью, удавляют. Я искал смелых людей; но по сех пор не нашел еще избавителя. Покушавшиеся за великое награждение освободить нас от несчастия погибли. Оных находили в доме оном раздробленных в мелкие части. Я прошу милостыни на сей дороге, и что получу, употребляю на пропитание свое и невесты моей, с которою несчастие и любовь меня соединили [10, 87–88] |
Сей Бесъ со многими другими Въ чертогахъ милой мнѣ живетъ; Когтями страшными своими Меня въ ночь каждую онъ рветъ. Я многихъ Витязей просилъ, Чтобъ кто изъ нихъ его сразилъ; * Они въ сраженьяхъ погибали, А Бесъ терзаньи умножалъ; Мои всѣ силы погибали, Отъ милой я своей бѣжалъ. Прошу я добрыхъ здѣсь людей, Чтобъ въ грусти помогли моей (73). |
«Друг мой! — сказал ему Алёша Попович. — Я богатырь странствующий, которые с собою денег не возят; следственно милостины я тебе подать не могу. Однако я избавлю тебя и невесту твою. Должность моя помогать несчастным и наказывать злых; а я не нашел еще нигде злее твоего нареченного тестя. Я ночевал в капище. Он напал на меня без всякой причины; но я раскроил ему лоб. Я не знаю Велзевула, ни адского князя; но из того не следует, чтоб должно оных бояться. Веди меня в дом оный. Я обязуюсь выгнать оттуда всех пакостников. Мне сокровищ не надобно, я всем добро делаю даром; но обещаешься ли ты исполнять все, что я тебе прикажу, и быть в точном моем послушании до самого того времени, как я женю тебя на дочери Твердовского?» [10, 88].
Поѣду я въ твои чертоги!
Альоша съ радостью сказалъ; Я зрѣлъ опасности ужь многи, И мертвеца ужь костылялъ; Не думаю, чтобъ онъ пришелъ, Коль хочетъ самъ остаться цѣлъ (73).
Из заимствованного эпизода Радищев опускает встречу Алеши с разбойниками и победу над ними при помощи висельников.
В начале третьей песни автор кратко рассказывает о злоключениях Людмилы после похищения. Астарот перенес Людмилу в ад и угрожает ей страшными муками. От страданий Людмилу оберегает Перун. Бес спускается к крутому морскому берегу, оставляет Людмилу в ладье, вручая ее судьбу на волю вод.
Радищев живописует опасности, которые подстерегают Людмилу во время морского путешествия. Ладья разбивается о камни. Злоключения Людмилы на острове — следствие колдовства Челубея. Колдун неоднократно показывает Людмиле видение погибающего Алеши, мстит Людмиле за свои муки любви, усугубляет ее страдания:
Твои всѣ члены разтерзаю!
Я въ томъ утѣху нахожу,
Отрады, сладости вкушаю,
Когда на скорбь твою гляжу;
Узри супруга ты теперь!
Предъ нимъ отверзлась гроба дверь (85).
Страдания Людмилы приносят радость Челубею, которого поэт называет «звѣрскимъ колдуномъ» (88).
Вторая часть третьей песни посвящена рассказу о подвигах Алеши.
Первую победу над бесами Алеша одержал в доме Твердовского.
Бесы являются в полночь. У Левшина они видимы, Радищев делает их невидимыми:
|
Настала полночь: преужасный вой поднялся в близлежащих комнатах, двери растворились, и представилось ему множество жрецов, идущих с факелами. Они пели надгробные песни и несли гроб закрытый [10, 90]. |
Вдругъ всѣ чертоги загремѣли, И вихрь въ нихъ двери растворилъ; Помосты съ стукомъ заскрыпѣли, Бѣсовъ огромной хоръ гласилъ: Кто дерзкой тако здѣсь сѣдитъ, И что онъ предпрiяти мнитъ? <…> Не долго тишина продлилась, Смутился Витязя покой; Дверь съ шумомъ, съ трескомъ отворилась Жреца ужаснаго рукой; За нимъ толпа уродовъ шла, Покрытой съ пѣньемъ гробъ несла (92–93). |
У Радищева бесы сначала устрашают Алешу «гласом хора», пытаются его прогнать. Невидимым бесам Алеша отвечает, что готов вступить с ними в бой. В ответ бесы «дохнули всѣ огнемъ» на Алешу, от которого тот укрылся щитом (93).
В повести Левшина Алеша изгоняет «жрецов» при помощи «железного дверного запора», в песнотворении Радищева герой побеждает «звѣрскаго жреца» и «толпу уродовъ» при помощи плети и меча.
|
Никто не отвечал ему, и каждый щелкал на него зубами и дыхал огнем. «Вы великие невежи, — сказал он жрецам. — Не довольно, что мешаете мне отдыхать; но и не ответствуете. Пора вам вон». С словом сим схватил он железный дверной запор, прогнал всех вон. Противились ему, дышали на него огнем, прыгали, как кошки, на стены и через него; однако он бил их без милости, и выгнав всех, запер двери крепко [10,90]. |
Но сонмъ ему не отвѣчалъ, И пламень на него пускалъ. * Тогда Альоша осердился, Бранилъ несущихъ черной гробъ, И съ плетью вдругъ на нихъ пустился, Жреца ударилъ страшно въ лобъ. Ужасно зверской жрецъ завылъ И сонма ходъ остановилъ. * Но Витязь юной, озлобленной, Держа одною плеть рукой, Другою вынувъ мечь согбенной, Явилъ тутъ духъ великой свой, Разилъ онъ всЁхъ какъ грозной громъ, И тотчасъ опуст ^ лъ весь домъ (94). |
В гробу Алеша обнаружил пана Твердовского, которого он побил плетью в храме.
|
Поляк вдруг открыл глаза и заскрыпел на него зубами [10, 90]. |
Но вдругъ Полякъ какъ вепрь вскочилъ, Альошу за уши схватилъ (95). |
И у Левшина, и у Радищева Алеша отрывает Твердовскому
голову:
«О! ты притворился только», — сказал богатырь, и потащил оного из гроба за волосы. Поляк опинался и противился; но богатырь подернув крепко, оторвал ему голову. В то мгновение гроб исчез, и удивленный Алёша Попович понес одну только голову в свою спальню. «Жаль мне тебя, — говорил он, садясь к печи, и положа голову у ног своих, — если б ты не так упрям был...». Но оторванная голова не дала ему докончить. Она укусила очень больно за ногу. Богатырь рассердился, и схватя голову, бросил в печь. Он продолжал еще ругательство к дерзкому поляку, и с удовольствием поглядывал в печь, как голова его обратится в пепл. Но комедия не кончилась [10,90-91].
И выю взявши въ сильну длань, Раздралъ Твердовскаго гортань. Глава Сарматска отделилась Отъ сильныхъ, буйныхъ, крепкихъ плечь;
Душа въ Альошѣ веселилась, Что скоро могъ онъ брань пресечь. Во прежню храмину онъ вшелъ, Сожегъ главу и къ печи сѣлъ.
*
Но кто опишетъ удивленье Альоши въ сей ужасной часъ? Глава пр1явъ въ трубу стремленье, Возвысила ужасной гласъ: Я живъ! она ему рекла, И грозна смерть тебѣ пришла (95-96).
На этом эпизоде превращения колдуна не закончились:
|
Он увидел полякову голову, обратившуюся в страшново огненного змия, и самого поляка, выезжающего на оном к нему с пламенным мечом [10, 91]. |
И вдругъ изъ печи выезжаетъ На зм1е яростномъ Полякъ; Онъ огненъ мечь въ рукахъ имелъ, Какъ уголь зракъ его гор ^ лъ (96). |
Герои Левшина и Радищева побеждают Твердовского раз- ным оружием.
|
По счастию стояла у печи железная кочерга, довольной толщины, богатырь встрел оною поляка толь удачно, что огненный змей со второго удара рассыпался в дребезги. Третий удар, направленный в толстую полякову шею, зацепил по оной крюком кочерги, и выбросил его раздробленного в окошко [10, 91]. |
Альоша, мракомъ окруженной, Не знаетъ плетью какъ разить; Ударъ, безъ меты устремленной, Ему случилося пустить: За выю Пана онъ задѣлъ И верьвью плети обвертѣлъ. * Тогда всѣ силы напрягая, Твердовскаго онъ потащилъ; Онъ вопли страшны изпуская, Пощады, милости просилъ. Мольбе Альоша не внималъ, Въ окно Твердовскаго бросалъ (97). |
После победы над Твердовским перед Алешей появляются Астарот и «полкъ чернопламенныхъ бѣсовъ». Алеша вступает в борьбу с Астаротом. Несмотря на ранение, герой побеждает Астарота и его свиту при помощи волшебной плети: «Альоша волосы щипалъ, / И бедра плетью окроплялъ» (100). Астарот умоляет Алешу о пощаде и готов показать, где заточена Людмила.
Алеша сообщает дочери Твердовского и ее жениху о своей победе и верхом на бесе отправляется на спасение Людмилы. В разговоре с Алешей Астарот во время пути проявляет себя любящим и заботливым родителем. Со слезами он уговаривает Алешу смягчить участь Челубея, но богатырь неумолим и пронзает его мечом.
В финале Алеша вместе со спасенной женой возвращается в Киев и снова становится дьячком. По мнению Т. И. Акимовой, «такой эпилог снижает героическое начало»: «“Алеша Попович” демонстрирует авторскую иронию по отношению к собственным претензиям на героические деяния и права на народное просветительство, вызревающее у дворянства в масонской среде, и показывается это через сложившуюся матрицу волшебно-сказочной поэмы, культивируемой Екатериной» [1, 111].
В оправдание этих жанровых экспериментов и трансформаций можно предъявить удачу другого поэта — «Руслана и Людмилу» А. С. Пушкина, которого вдохновила стихотворная сказочная повесть Радищева.
Подражая фольклорным и литературным источникам, начинающий автор создал оригинальное сочинение, в котором есть признаки былины, волшебной фольклорной и литературной сказки, героической и сентиментальной поэмы. В таком сложном синтетическом единстве разных жанров предстает сказочная стихотворная повесть.
В результате жанровых трансформаций поэт создает оригинальный образ Алеши Поповича. Радищев называет Алешу рыцарем, он мало похож на богатыря, который побеждает соперников силой оружия и духа. В борьбе со злыми и враждебными персонажами ему помогают магические предметы и сверхъестественные способности, что характеризует его как героя волшебной сказки. В произведении Радищева Алеша Попович не только сказочный персонаж, но и литературный герой, способный на сомнения в правильности выбранного пути, страдания, пылкость в выражении чувств.
Список литературы Образ Алеши Поповича в "Богатырском песнотворении" Н. А. Радищева (проблема жанровых трансформаций)
- Акимова Т. И. Поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и волшебно-сказочные поэмы конца XVIII -начала XIX века//Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. -2011. -№ 23. -С. 106-115. -(Серия «Гуманитарные науки»).
- Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. -Л.: Наука, 1972. -468 с.
- Астахова А. М. Народные сказки о богатырях русского эпоса/АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. -120 с.
- Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: в 3 т./подгот. Л. Г. Бараг, Н. В. Новиков; отв. ред. Э. В. Померанцева, К. В. Чистов. -М.: Наука, 1985. -Т. 2. -464 с.
- Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. -М.: Учпедгиз, 1951. -687 с.
- Булкина И. К сюжету о пане Твардовском (конспекты «киевской» баллады Жуковского//Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы международной научной конференции, посвященной 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева. -Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. -С. 41-63 . -URL: http://www.ruthenia.ru/document/535054.html (10.11.2016).
- Булкина И. Киев в русской литературе первой трети XIX века: пространство историческое и литературное: дис. …канд. филол. наук. -Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. -211 c.
- Владимиров П. В. А. С. Пушкин и его предшественники в русской литературе. -Киев: Тип. Императорского Университета св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1899. -84 c.
- Гистер М. А. Образ Алеши Поповича в русской литературной сказке XVIII -начала XIX века//А. М. П.: Памяти А. М. Пескова. -М.: РГГУ, 2013. -С. 158-183.
- Левшин В. А. Повести о Алеше Поповиче богатыре, служившем князю Владимиру//Левшин В. А. Русские сказки: в 2 кн. -СПб.: Тропа Троянова, 2008. -Кн. 1. -472 с.
- Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. -Петрозаводск: Гос. изд-во Карельской АССР, 1959. -503 с.
- Пропп В. Я. Русский героический эпос. -М.: ГИХЛ, 1958. -603 с.
- Пушкин А. С. Александр Радищев//Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. -Т. 6: критика и публицистика. -М.: ГИХЛ, 1962. -С. 210-220.
- Семенников В. П. Радищев. -М.; Л.: Гос. изд., 1923. -467 с.
- Сиповский В. В. «Руслан и Людмила»: (К литературной истории поэмы)//Пушкин и его современники: материалы и исследования/комис. для изд. соч. Пушкина при Отд-нии рус. яз. и словесности Имп. акад. наук. -СПб., 1906. -Вып. 4. -С. 59-84.
- Слонимский А. Л. Первая поэма Пушкина//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии/АН СССР. Ин-т литературы. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. - 3. -С. 183-202.
- Смирнов Ю. И., Смолицкий В. Г. Былины о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче//Добрыня Никитич и Алеша Попович/cост. Ю. И. Смирнов, В. Г. Смолицкий. -М.: Наука, 1974. -С. 343-361.
- Щедрин И. Л. Богатырские поэмы Н. А. Радищева: проблема памяти жанра былины//Держава та регiони. Серiя: Гуманiтарнi науки. -Запорiжжя: Класичний приватний унiверситет, 2014. -№ 3 (38). -С. 39-45.
- Юдин Ю. И. Героические былины (Поэтическое искусство)/АН СССР; отв. ред. Э. В. Померанцева. -М.: Наука, 1975. -120 с.