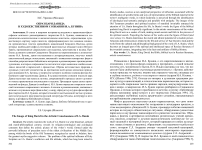Образ царя Давида в художественном сознании И.А. Бунина
Автор: Урюпин Игорь Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье в широком историко-культурном и нравственно-философском контексте рассматривается творчество И.А. Бунина, выявляются его религиозно-онтологические и аксиологические константы, определяющие художественную картину мира писателя, сформировавшуюся под мощным влиянием прецедентных текстов древнейших цивилизаций Ближнего Востока, среди которых наибольшей мифо-суггестивной валентностью обладают книги Ветхого Завета, признающиеся сакральными для иудаизма, христианства и ислама. Проблема духовного влияния Священного Писания на миропонимание и жизнеотношение И.А. Бунина, давно поставленная в литературоведении, получает новый аналитический ракурс осмысления, связанный с выявлением конкретных форм и способов репрезентации библейского материала в разножанровых произведениях художника, в которых современность постигается через выявление идейно-смысловых аналогий и параллелей с древностью. Образы ветхозаветных пророков и духовных учителей человечества на протяжении всей жизни неизменно привлекали внимание И.А. Бунина, в творчестве которого особенно значима фигура библейского царя-псалмопевца Давида. В художественном сознании писателя царь Давид выступает как искатель истины, совершающий в процессе своего духовного поиска нравственные восхождения и падения. Проецируя героев своих произведений на фигуру Давида (и наоборот), И.А. Бунин определяет морально-этический потенциал современного человека. Аллюзии и реминисценции, связанные с жизнью и служением царя Давида Богу и миру, образуют культурно-философский фон творчества И.А. Бунина, который становится неотъемлемой частью духовноинтеллектуального пространства русской литературы ХХ века, интегрируя в него факты и артефакты библейской истории.
И. а. бунин, царь давид, библия, библейский текст в русской литературе, художественное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/149141329
IDR: 149141329 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-202
Текст научной статьи Образ царя Давида в художественном сознании И.А. Бунина
Размышляя о феномене И.А. Бунина, о его миропонимании и жизне-отношении, о его философских исканиях и прозрениях, о самой попытке постичь суть человеческого бытия, И.А. Ильин настаивал на том, что писателю была свойственна «настоящая религиозность»: «Бунину действительно присуще это чувство, именно как страшное чувство, уводящее его в глубину темного, родового и всемирного опыта» (курсив И.А. Ильина. -И.У) [Ильин 1996, 219]. Отсюда его интерес к духовным традициям разных культур и цивилизаций, к онтологическим первосмыслам, которые содержат в себе сакральные тексты древних народов, аккумулирующие знания о микро- и макрокосме. И.А. Бунин хорошо разбирался в Священном Писании, к чтению которого приобщился в детстве, а потому «библейские образы неизменно присутствуют в его творчестве» [Мальцев 1994, 33], актуализируя глубинные пласты архаического сознания, оказывающиеся востребованными современностью.
Миф и реальность настолько сильно переплетаются, что само понимание настоящего невозможно без погружения в легендарное прошлое, в этом неоднократно убеждался И.А. Бунин, проецируя события священной истории на текущую общественную ситуацию, обнаруживая сущностные параллели и внутренние закономерности в развитии человечества. Обращаясь к фактам и артефактам величайших религиозных учений древности, писатель сопрягает в духовно-аксиологическом континууме тот самый «родовой и всемирный опыт», который выражается в емких культурных знаках (именах и реалиях), образующих «ассоциативно-вербальную сеть», которую С.Л. Андреева считает «полевой текстовой категорией, формирующейся из совокупности нескольких многократно пересекающихся тематических номинативных цепочек» (курсив С.Л. Андреевой. -И.У.) [Андреева 1998, 5]. В творчестве И.А. Бунина со всей очевидностью обнаруживается такая «библейская тематическая сеть» [Андреева 1998, 5],

реализующаяся через реминисценции и аллюзии к Священному Писанию, мотивы и образы которого, трансформируясь в произведениях писателя, организуют особый сверх- и метатекст [Урюпин 2020], проявляющийся на разных уровнях художественной структуры произведений - от нарративной (через сюжет и жанр) до когнитивно-семантической (через антропонимикой и концептосферу).
В художественном мире И.А. Бунина, открытом для духовно-интеллектуальных систем прошлого и настоящего, концентрирующих важнейшие экзистенциальные проблемы человеческого бытия, причудливо соединяются культурные коды Востока и Запада, авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам) и мистико-эзотерических практик вне-конфессионального толка (пантеизм, теософия, антропософия). Все это преосуществляется в литературных образах, чрезвычайно сложных по своему генезису, поливалентных по своим функциям в тексте. Для писателя, православного по вероисповеданию, укорененного в русской народно-национальной почве, как ни парадоксально, определяющим в его личностном становлении явилось тяготение к древнейшим пластам мировой цивилизации, которые оказались источниками вдохновения художника и основой его ценностно-смысловой картины мира. Г.Ю. Карпенко утверждает, что в «кругу религиозно-философских произведений», повлиявших на И.А. Бунина, «центральное место принадлежит ближневосточным по происхождению текстам - Ветхому Завету и Корану» [Карпенко 2005, 7] (выделено Г.Ю. Карпенко. - И.У.).
Ветхозаветные образы выступают системообразующими константами бунинского универсума, последовательно реализуя весь заключенный в них идейно-содержательный потенциал. К числу наиболее мифо-суггестивных образов, вокруг которых образуется мощнейшее религиозно-этическое и культурно-философское поле, покрывающее собой весь Ветхий Завет, относятся образы праотцев - Авраама [Урюпин 2021] и Давида, с которых начинается «генеалогия Христа» [Аверинцев 2006, 93] и история духовного пути человечества к Богу / нравственному Абсолюту.
Фигура царя Давида, «окруженного ореолом помазанника Бога» [Тант-левский 2005, 193] (на что указывает и само имя идеального правителя Древнего Израиля: «“возлюбленный”, “друг” [Господа]» [Тантлевский 2005, 183]), богодухновенного певца и пророка, создателя поэтически совершенных молитвословий, в которых аллегорически представлен круг земного и небесного бытия, на протяжении всей жизни волновала И.А. Бунина, обращавшегося к псалмам в минуты радости и скорби. Лирический герой стихотворения «Псалтирь» (1916), мотивно-образная структура которого позволила О.А. Бердниковой соотнести его с 138 псалмом, в котором «речь идет о Всеведении Господа, уразумевшего с высоты помыслы человека» [Бердникова 2012, 321], взывает к Творцу: «Укажи мне прямые пути / Ив какую мне тварь низойти» [Бунин 2005-2007, II, 65].
Выбор «прямого пути» к Богу - центральная тема псалмов Давида, в которых прославляется свобода человека в его жизненных исканиях:

«Путь истины избрал я и судов Твоих не забыл» (Пс. 118: 29), - восклицает постигший цену искушений и соблазнов мира сего библейский царь. В рассказе И.А. Бунина «На даче» (1897) «живой толстовец» Каменский, пытающийся на деле осуществить божественное призвание человека -трудом возделывать ниву жизни, в числе духовных ориентиров видел царя Давида, изречения которого «были приклеены хлебом» на простенке мельницы среди цитат других учителей человечества. «Печатные рассуждения под разными заглавиями: “О Слове”, “О любви”, “О плотской жизни”» дополнялись выдержками «из псалмов Давида: “Ты дал мне познать путь жизни; ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим!”» [Бунин 2005-2007,1, 362]. Только вот указанные слова отнюдь не «из псалмов Давида», а из Деяний апостолов, в которых священнописатель вспоминает царя-псалмопевца и приводит его моление из пятнадцатого псалма (Пс. 15: 10-11): «Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим» (Деян. 2: 28). В Деяниях апостолов этот псалом стилистически и грамматически трансформирован, лишен тех акцентов, которые в нем содержатся: «Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс. 15: 11). За библейской цитатой в бунинском рассказе проступает серьезный подтекст, актуализируемый только при целостном восприятии Деяний апостолов, особое внимание в них уделяется царю Давиду, из семени которого, «от плода чресл его» произойдет Христос: «Мужи братия! Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб у нас до сего дня» (Деян. 2: 29).
Бытие Давида выступает как неопровержимое доказательство истины боговоплощения. Каменский часто апеллирует к фигуре пророка-псалмопевца в спорах со своими оппонентами из числа «дачной» интеллигенции, позитивистски настроенными и скептически воспринимающими духовно-религиозные ценности, доходя в своей интеллектуальной гордыне до богоотрицания, подобно первому царю израильскому Саулу, отвергшему божественный промысел и названному Давидом «безумцем» в тринадцатом псалме (Пс. 13: 1). Именно этот псалом вспоминает Каменский в споре с отставным профессором консерватории Ильей Подгаевским: «А царь Давид вот что: “И рече безумец в сердце своем - несть бога!”» [Бунин 2005-2007, I, 379]. Однако этот аргумент не был принят дачниками. Софья Марковна сразу же попыталась усомниться в состоятельности самого библейского царя как морального авторитета: «Не следует, я думаю, забывать того, что Давид совмещал в себе массу достоинств, но еще более недостатков» [Бунин 2005-2007,1, 379].
Величайшими достоинствами Давида были его «непамятозлоб!е и долготерпЬн1е» [Толковая Псалтирь 1907, 1039], являющиеся, согласно Толковой Псалтири Евфимия Зигабена, проявлением кротости - того «особенного свойства праведника» [Толковая Псалтирь 1907, 599], которое превосходит все прочие добродетели. В очерке И.А. Бунина «“Шаман” и Мотька» (1890) чтение Олимпиадой Марковной «псалма Давида: “Вспо-

мяни, Господи, царя Давида и всю кротость его”» [Бунин 2005-2007, II, 415] умягчает сердце Матвея и спасает помещицу от гнева ее работника. В народно-религиозном сознании утвердился образ царя Давида, немало грешившего в жизни, но сокрушавшегося о своих грехах и искупавшего их пламенной верой в Бога, как утешителя в скорбях и защитника от внешних и внутренних врагов, одолевающих плоть и / или душу. Не случайно в рассказе И.А. Бунина «Иоанн Рыдалец» (1913) на могиле князя, помещика села Грешное, «только перед самой кончиной» примирившегося «с Богом и людьми», «ничто, кроме имени и начала покаянного псалма Давида» [Бунин 2005-2007, III, 256], не напоминало о его грешной жизни. «Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною» (Ис. 50: 5). Эти слова покаянного псалма, неустанно повторявшиеся царем Давидом, были услышаны Богом, простившим ему все его недостатки и человеческие слабости, о которых повествуется в Священном Писании.
Во Второй книге Царств рассказывается о страсти, охватившей царя Давида к Вирсавии, дочери Елиама, жене Урии Хеттянина: прогуливаясь по кровле дворца, Давид увидел «купающуюся женщину; а та женщина была очень красива»; «Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею» (2 Цар. 11: 2-4). Узнав о ее беременности, царь Давид захотел избавиться от мужа Вирсавии, приказав своему военачальнику Иоаву отправить его туда, «где будет самое сильное сражение», «чтоб он был поражен и умер» (2 Цар. 11: 15). Обрекая на неминуемую гибель соперника, Давид до конца своих дней испытывал угрызения совести, слезами и кровью расплачиваясь за счастье земной любви. Но даже за мимолетные мгновения этого счастья человеку приходится страдать, жертвовать собой, ставя на кон саму жизнь.
Это хорошо понимает автор-повествователь в рассказе «Весной, в Иудее» (1946) из цикла «Темные аллеи», вспоминая свою молодость и страсть к племяннице шейха Аида, из-за которой он остался «на всю жизнь хромым, калекой» [Бунин 2005-2007, VI, 201]. В памяти героя навсегда отпечаталась встреча с молодой вдовой-бедуинкой, к которой он испытал сильнейшие чувства в том самом месте, у «древнего “Водоема пророка Иезекииля”», в нем текла «та самая вода, в которой купалась Вирсавия, жена Урия, наготой своей пленившая царя Давида» [Бунин 2005-2007, VI, 205]. «Водоем, в котором Давид увидал купающуюся Вирсавию» [Бунин 2005-2007, XII, 217], в своих мемуарах описала и В.И. Муромцева-Бунина, сопровождавшая писателя в поездке по Палестине в 1907 г, впечатления от которой легли в основу книги очерков «Тень Птицы», пронизанной «библейским текстом и его комментариями» [Грановская 2020, 25], представляющими собой манифестацию религиозно-философских воззрений автора, выражение его глубокого интереса к Священному Писанию. «Отблеск Палестины», по замечанию Е.Р. Пономарева, «обнаруживается как в дореволюционном, так и эмигрантском творчестве Бунина» [Пономарев 2020, 133], образуя устойчивый мотив поиска обетованной земли, возвращения человека к своим духовным истокам.
Одно из центральных произведений цикла путевых поэм по Ближнему Востоку - очерк «Иудея» (1910). Легендарная библейская земля, колыбель человеческого рода, после долгих веков запустения и еврейского рассеяния «опять понемногу заселяется своими прежними хозяевами, страстно мечтающими о возврате дней Давида» [Бунин 2005-2007, III, 412], представлявшихся золотым веком Израильско-Иудейского царства, в котором все напоминает о жизни и подвигах великого правителя. Весь бунинский очерк об Иудее, чрезвычайно богатой культурными ассоциациями, композиционно выстроен как паломничество по местам царя Давида: от его родового гнезда - Вифлеема - у подножия «Моавитских гор, с которых некогда пришла кроткая праматерь Давида Руфь» [Бунин 2005-2007, III, 416], подвига в битве с филистимлянами в одной из котловин «кремнистой долины», когда «взял посох свой в руку свою Давид и выбрал пять гладких камней из ручья и поразил Голиафа...» [Бунин 2005-2007, III, 413], призвания на царство и обустройства «Иерусалима, устроенного, как одно здание!» до самой смерти и погребения на Сионе, где находится «гробница Давида» [Бунин 2005-2007, III, 416], внезапно распавшаяся при императоре Адриане. На месте упокоения царя Давида В.Н. Муромцеву-Бунину поразила «провалившаяся могила, вся в маках»: «Я сбегаю и срываю целый пук этих прелестных цветов, выносящих лишь одно прикосновение...» [Бунин 2005-2007, XII, 216]. «Провалившаяся могила, густо заросшая маком» [Бунин 2005-2007, III, 416], в очерке И.А. Бунина становится символом бренности человеческого бытия, мнимости величия царств и властителей, ничтожных и уязвимых перед лицом времени: «Вся Иудея - как эта могила» [Бунин 2005-2007, III, 416].
Вообще «мортальные мотивы» [Трубицина 2018, 98] организуют художественное пространство «мертвого города», каким представлен в произведении писателя Иерусалим. «Город Давида» за всю свою историю не раз умирал и воскресал / возрождался вместе с «переходом человечества на новый уровень духовного и нравственного развития» [Ковалева 2015, 515]. И.А. Бунин очень тщательно воссоздает топографию библейского города. По верному замечанию В.Л. Шаровой, «здесь важна каждая точка, каждый символ прошлого» [Шарова 2020, 142]. Из таких «точек» создается сакральный образ Иерусалима: «цитадель Давида с ее рвами и бойницами» [Бунин 2005-2007, III, 414], «улица Давида: узкий, темный, крытый холстами и сводами ход между старыми-старыми мастерскими и лавками» [Бунин 2005-2007, III, 414]. Это описание «Улицы царя Давида» («Одно название чего стоит» - «сразу охватывает трепет» [Бунин 2005-2007, XII, 206], - вспоминала В. И. Муромцева-Бунина) почти дословно писатель повторит в рассказе «Весной, в Иудее», написанном не одно десятилетие спустя после публикации книги «Тень Птицы»: «...темный, крытый где холстами, а где древними каменными сводами ход между такими же древними мастерскими и лавками» [Бунин 2005-2007, VI, 204].
В художественном сознании И.А. Бунина библейская древность прочно ассоциировалась с фигурой царя Давида, образ которого неизменно сопут-
ствовал размышлениям писателя о смысле человеческого бытия: «весной, в Иудее», в пору пробуждения природы, в душе героя возрождается любовь, величайшая сила жизни. Эту неодолимую силу И.А. Бунин чувствовал в Л.Н. Толстом, осмыслению феномена которого посвятил свой философско-критический трактат. В «Освобождении Толстого» (1937) писатель сравнивает «патриарха» русской литературы с «сыном Давидовым, царем над Израилем и великим “делателем”» [Бунин 2005-2007, VIII, 41] - Соломоном, мудрость которого стала воплощением приземленного миропо-знания - доведенных до рационалистических пределов поэтических откровений Давида-псалмопевца, устремлявшегося в порыве вдохновения к небу. Однако в письме к И.А. Бунину от 5 июля 1944 г. архимандрит Киприан (Керн) настаивал: Л.Н. Толстой запутался «в исканиях, слишком на себя понадеялся, но не отвергал он Бога, не ненавидел Христа. “Заблу-дих яко овча погибшая” - можно о нем сказать словами Давида (пс. 118)» [Бунин 2005-2007, XII, 130]. Царя Давида вспоминал И.А. Бунин и в эссе «О Чехове» (1955), которого Н.С. Лесков «“помазал, как Самуил Давида”» [Бунин 2005-2007, VIII, 159], на писательское поприще, и еще раньше в «Литературном дневнике “Мир Божий”. V кн.» (1898), анализируя романтическую лирику А.С. Пушкина, которую «байроновская форма» стесняет, «как оружие Саула - движения молодого Давида» [Бунин 2005-2007, VIII, 259].
И.А. Бунин на протяжении всей жизни находился под обаянием личности легендарного царя-псалмопевца, проецируя события современности на библейскую древность, в которой сосредоточены духовные истоки цивилизации, сконцентрирован колоссальный опыт миро- и богопознания, указаны ориентиры на пути восхождения «ветхого» человека от земной юдоли к горним высотам Богочеловечества. Царь Давид в художественном сознании И.А. Бунина стал тем нравственным маяком, к которому устремлялся писатель в его плавании по «житейскому морю», в напряженных поисках незыблемых основ человеческого бытия, дарующих надежду на вечность и бессмертие.
Список литературы Образ царя Давида в художественном сознании И.А. Бунина
- Аверинцев С.С. Собрание сочинений. София - Логос. Словарь. Киев: Дух i лггера, 2006. 912 с.
- Андреева С.Л. Библейские реминисценции как фактор текстообразования (на материале произведений И.А. Бунина «Тень птицы», «Окаянные дни», «Миссия русской эмиграции»): автореферат дис. ... к. филол. н.: 10.02.01. М., 1998. 18 с.
- Бердникова О.А. Реминисценции, цитаты и мотивы Псалтири в творчестве И.А. Бунина // Проблемы исторической поэтики. 2012. № 10. С. 315-327.
- Бунин И.А. Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Воскресение, 20052007.
- Грановская Л.М. Библейский текст в творчестве И.А. Бунина (к 150-летию со дня рождения) // Россия Ивана Бунина и культура русского Подстепья (к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина): материалы Всероссийской научной конференции. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2020. С. 23-31.
- Ильин И.А. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6: Кн. 1. М.: Русская книга, 1996. 560 с.
- Карпенко Г.Ю. Творчество И.А. Бунина и религиозное сознание рубежа веков: Учебное пособие к спецкурсу «Литература и религиозное сознание». Самара: Универс-групп, 2005. 68 с.
- Ковалева Т.Н. Библейский хронотоп в «путевых поэмах» И.А. Бунина «Тень птицы» // Проблемы исторической поэтики. 2015. № 13. С. 507-526.
- Мальцев Ю.В. Иван Бунин. 1870-1953. Франкфурт-на-Майне - М.: Посев, 1994. 432 с.
- Пономарев Е.Р. И.А. Бунин и Палестина. К постановке проблемы // Новый филологический вестник. 2020. № 3(54). С. 131-140.
- Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2005. 402 с.
- Толковая Псалтирь Евеим1я Зигабена (греческаго философа и монаха), изъясненная по свято-отеческимъ толковашямъ. Юевъ: Типограф1я Юево-Печерской Лавры, 1907. 1164 с.
- Трубицина Н.А. Геокультурный образ Иудеи в цикле путевых очерков И.А. Бунина «Тень птицы» // Филоlogos. 2018. № 4(39). С. 95-99.
- Урюпин И.С. Библейский контекст в русской литературе конца XIX - первой половины XX века: учебное пособие. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 294 с.
- Урюпин И.С. Мифосемантика образа Авраама в художественном мире И.А. Бунина // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2021. № 3. С. 76-81.
- Шарова В.Л. Философское осмысление пространства в прозе И.А. Бунина // Философские науки. 2020. Т. 63. № 6. С. 133-145.