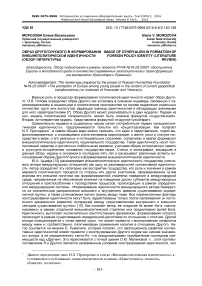Образ другого / чужого в формировании внешнеполитической идентичности (обзор литературы)
Автор: Морозова Елена Васильевна
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Обзорные статьи
Статья в выпуске: 6-2 т.8, 2016 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14951516
IDR: 14951516 | УДК: 81 | DOI: 10.17748/2075-9908-2016-8-6/2-183-186
Текст статьи Образ другого / чужого в формировании внешнеполитической идентичности (обзор литературы)
ОБРАЗ ДРУГОГО/ЧУЖОГО В ФОРМИРОВАНИИ IMAGE OF OTHER/ALIEN IN FORMATION OF ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ FOREIGN POLICY IDENTITY (LITERATURE
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) REVIEW)
Acknowledgement. The review was prepared by the project of Russian Humanities Foundation №16-23-20001 «The perception of Europe among young people in the context of current geopolitical transformations (on materials of Krasnodar and Yerevan)».
Важную роль в процессах формирования политической идентичности играет образ Другого. О.В. Попова определяет образ Другого как установку в сознании индивида, связанную с самоопределением в социальном и политическом пространстве на основе выделения отдельных личностей, групп или институтов, задающих границы идентичностей и обладающих значимыми для него характеристиками [7]. Образ Другого может реализоваться в двух моделях. Первая из них, модель политической толерантности, может быть описана формулой «я - другой - иной». Вторая, интолерантная модель, представлена формулой «я - другой - чужой - враг».
Сравнительно недавно в социальных науках начал употребляться термин «внешнеполитическая идентичность», предпринимаются попытки его концептуализации. Как полагает И.Л. Прохоренко1, в самом общем виде можно признать, что идеи и представления, порой мифологизированные, о сложившемся и/или желаемом миропорядке, о месте, роли и статусе государства в мире, о его реальных и потенциальных союзниках, соперниках и врагах формируют внешнеполитическую идентичность национального государства. Такая идентичность носит коллективный характер и достаточно стабильна во времени, учитывая общие историческую память и культурно-исторические основания государства-нации. Статьи и монографии, вошедшие в данный обзор, изданы в основном в последние пять лет и раскрывают различные аспекты использования образа Другого/Чужого в формировании внешнеполитической идентичности.
Ю.А. Цырфа [10] рассматривает внешнеполитическую идентичность государства (ключевого актора международных отношений) как одну из разновидностей коллективной идентичности. Автор определяет эту категорию как восприятие государства, его роли и значения в рамках мирового политического процесса со стороны его других участников, сформированное путем анализа его внешней политики как формализованной стратегии поведения в международной среде, направленной на обеспечение влияния на поведение других субъектов международных отношений и приспособление к последствиям процессов, происходящих в рамках определенной международной системы. «Формирование идентичности международного актора базируется на сознательном разграничении внешнего и внутреннего ареалов существования определенной группы, а также установлении четких границ между ними. Все перечисленные факторы конструирования идентичности могут быть задействованы только после налаживания (и постоянного динамичного развития) интеракций между представителями внутреннего и внешнего секторов существования группы» [10]. Как полагает автор, ее создание не может быть «запланировано» в рамках отдельной внешнеполитической стратегии или продиктовано волей Бога. Идентичность выступает исключительно конститутивным феноменом, формирование которого происходит в рамках существования определенной дихотомии по отношению к отличию. Другой иногда позиционируется с точки зрения угроз, что может привести к возникновению конфликта между ними и, соответственно, легитимизации применения насилия в отношении Другого. Автор ссылается на мнение Б. Румелили, который полагал, что эволюционное развитие коллективных идентичностей может привести к конструированию Другого скорее как «менее значимого» актора, а не определенного «анти-Я», что предусматривает приобретение последним преимуществ над «Другим». Это перекликается с точкой зрения О.Ю. Малиновой: «…хотя противопоставление Я и Другого является непременным условием конструирования идентичности, оно не обязательно должно принимать форму антагонизма. На практике имеет место широкий спектр вариаций, которые нуждаются в эмпирическом исследовании» [5].
Термин «значимый другой» заимствован политической наукой из психологии, в психологическом дискурсе «значимый другой» - это определенный человек, чье мнение высоко ценится данной личностью; человек влиятельный в своем воздействии на поведение и развитие данной личности, на принятие ею тех или иных социальных норм, ценностных ориентаций, формирование образа себя. Как отмечает А.П. Цыганков [11], для формирования полноценной субъектности в мировой политике принципиально важно наличие «значимого Другого», на которого проецируются представления о культурных, социальных и политических ценностях. Он незримо присутствует в самой ткани политического процесса, создает контекст существования и развития государства и таким образом оказывает значительное влияние на перманентные процессы формирования идентичности, прежде всего «легитимирующей идентичности» (Э. Кастельс), необходимой для повышения социальной сплоченности и расширения поддержки институтов государства, рационализации его власти. «В периоды относительной стабильности вопрос об идентичности не является первостепенным, тогда как в смутные времена перемен и потрясений, когда настоящее невыносимо, а будущее неопределенно, он выходит на первый план. Идентичность оказывается тем стержнем, который позволяет четко определить национальные интересы государств и интересы других международных акторов, отличить друзей от врагов, союзников от противников, задавая тем самым направление развитию международных отношений» [4]. О.Ю. Малинова полагает, что сообщества, «стоящие за» другими государствами, значимы не только в качестве потенциальных противников/врагов или партнеров/друзей на международной арене, но и носителей социального или политического опыта, обусловившего их успехи и неудачи и способного служить для нас ориентиром [5]. Опыт постсоветской истории показывает, что в роли «значимых Других» для России выступают США, Европа и Китай. «Разделяемые представления о внешних Других являются не только неотъемлемым элементом механизма конструирования макрополитических идентичностей, но и инструментом символической политики как публичной деятельности, связанной с производством и продвижением различных способов в и дения социальной реальности. В частности, они активно используются для легитимации властных решений» [5, с. 21]. В статье О.Ю. Малиновой демонстрируется, каким образом изучение способов репрезентации Других в контексте оправдания и оспаривания политического курса позволяет оценить их значимость.
Интерес представляет предложенная О.М. Тюкаркиной [8] типология внешнеполитических образов, характерных для многополярного мира. Автор выделяет следующие образы: образ стратегического партнера (доминирует в биполярном мире, при этом партнеры не обязательно являются единомышленниками); образ соперника (отличается от образа врага тем, что при выраженном конфликте интересов отношения не переходят за грань мирного урегулирования); образ врага (чаще всего существует в рамках билатеральных конфликтов); образ зависимого государства, всецело зависимого от действий суверена; образ государства-единомышленника (встречается достаточно редко, предполагает наличие разделяемых системных ценностей); образ государства-«изгоя» (государства, с мнением которого не считаются в международных отношениях)2; образ нейтрального государства (характерен для стран, воздерживающихся от участия в конфликтах и выполняющих роль медиатора).
Д.В. Чернобров [9] исследует эволюцию образа Другого в конфликтах современности. Автор раскрывает возможности конструктивистского подхода к объяснению конфликтов, что позволяет говорить о ключевой роли субъективного образа Другого в поддержании или изменении конфликтного потенциала на уровне коллективной идентичности. Предлагаемые в статье выводы связывают эволюцию «образа другого» с многоуровневой идентичностью, историческим сближением идентичности с национальным государством и увеличением количества доступных информационных потоков. С одной стороны, развитие внутринациональных конфликтов и протестных движений приводят к фрагментации «своего» от национального уровня к иным коллективным идентичностям. С другой стороны, социально-ценностная глобализация развивает тенденцию контекстной ассоциации «своего» с другими «своими» и переводит границу идентичности в ценностную плоскость (например, демократический «свой»). Усложнение образа Другого в современных конфликтах затрудняет их урегулирование и приводит к пересмотру значения конструктивистского анализа международных событий.
В поле нашего обзора оказались несколько исследований, представляющих различные кейсы использования образов Другого/Чужого в формировании внешнеполитической (или близкой к ней геополитической) идентичности. Книга Э.Я. Баталова, В.Ю. Журавлевой, К.В. Хозин-ской «Рычащий медведь» на «диком Востоке» (Образы современной России в работах амери- канских авторов: 1992-2007) [1] содержит комплексный анализ образов постсоветской России, формировавшихся в США в период с 1992 по 2007 гг. Рассматриваются представления американцев о российском политическом режиме, внутренней, внешней, экономической и социальной политике государства, состоянии российской армии и роли России в обеспечении международной безопасности. Авторам удалось показать связь между спецификой американского восприятия России, особенностями американской цивилизации и характером американо-российских отношений.
Проведенное в 2012 г . В.А. Колосовым и О.И. Вендиной сравнительное исследование геополитических представлений студентов трех университетов: Балтийского федерального им. И. Канта, Гданьского (Польша) и Клайпедского (Литва) - выявило резкую асимметрию их интереса к соседней стране [3] . У польских и литовских студентов слово «Калининград» вызывало негативные ассоциации, хотя большинство из них никогда не бывали в этом российском регионе. Среди них получили распространение некоторые клише, связанные не столько с Калининградом, сколько с имиджем России в целом. Многие еще с 1990-х годов ассоциируют город с бедностью, неразвитостью, низким уровнем жизни, теневой экономикой, контрабандой и др. В настоящее время социально-экономические показатели Калининградской области и сопредельных регионов Польши и Литвы вполне сопоставимы, а по некоторым параметрам Калининград в начале текущего десятилетия опережал Литву. Авторы доказали, что стереотипная геополитическая картина мира, основанная на негативном коллективном опыте старших поколений, воспроизводится молодежью, сильно деформируя восприятие ею действительности . Сложившиеся представления оказывают весьма заметное влияние и на внутреннюю, и на международную политику, и на внешнеэкономические связи, особенно инвестиции и туристические потоки.
Обозначенный в последние годы политическим руководством России «восточный вектор» российской внешней политики привел к переоценке роли Китая как «значимого Другого», а стратегическое партнерство с этой страной приобрело для России особую значимость после присоединения Крыма и охлаждения отношений с западными странами. Можно ожидать проявления значимых работ, раскрывающих специфику образа Китая как значимого Другого для внешнеполитической идентичности россиян. Еще одно проблемное поле, на котором следует ожидать всплеска исследовательской активности, - современные российско-украинские отношения в контексте конструирования образа Другого/Чужого.
Большой интерес как с точки зрения контента, так и методологии и инструментария исследования представляют работы, посвященные визуальным аспектам репрезентации образа Другого/Чужого. В.И. Журавлева [2] исследовала визуальные репрезентации Российской империи / СССР, постсоветской России в политической карикатуристике США, что позволило обосновать роль русского Другого в формировании американской идентичности в длительной исторической перспективе. Автор показывает, как американские карикатуристы выражали в графической форме то, что не всегда поддавалось вербализации, актуализировали не только скрытые оценочные суждения американцев по поводу других наций, но и выстраивали определенную иерархию стран и народов, определяли место и роль США на ментальной карте мира. В статье показано, как дихотомия двух образов русского Другого - «демонического» и «романтического» - связана с коммуникативными стратегиями, использованными для кодирования американского общественного мнения. Л.В. Куликова и Ю.И. Детинко [11], рассматривая карикатуру как мультимодальный текст, показывают, как она используется в политическом медийном дискурсе Великобритании для создания образа Другого. В интракультурной перспективе политическими Другими могут выступать партии-оппоненты, в то время как интеркультурная перспектива подразумевает отношение к России, США, Франции как к Другим. Механизмы конструирования образа Другого определяются нахождением объекта внутри общей национальной культуры или за ее рамками.
Список литературы Образ другого / чужого в формировании внешнеполитической идентичности (обзор литературы)
- Баталов Э.Я., Журавлева В.Ю., Хозинская К.В. «Рычащий медведь» на «диком Востоке» (Образы современной России в работах американских авторов: 1992-2007). -М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. -384 с.
- Журавлёва В.И. Визуализация дискурса идентичности: русский «Другой» в американской политической карикатуристике: от века XIX к веку XXI/Американцы в поисках идентичности. -М.: РгГу, 2013. -С. 364-397.
- Колосов В.А., Вендина О.И. Геополитическое видение мира, идентичность и образы друг друга в представлениях молодых жителей Калининграда, Гданьска и Клайпеды//Балтийский регион. -2014. -№ 4. -С. 7-30.
- Малинова О.Ю. Концепт «другого» в исследованиях идентичности: Анализ современных дискуссий//Политическая наука. -2015. -№ 4. -С. 154-169.
- Малинова О.Ю. Риторика политического лидера как индикатор значимости Другого. США и КНР в выступлениях президентов РФ (2000-2015 гг.)//Полис. Политические исследования. -2016. -№ 2. -С. 21-37 DOI: 10.17976/jpps/2016.02.03
- Морозова Н.Н. Внешняя политика как дискурсивная практика: к вопросу о конструировании политического сообщества//Политическая лингвистика. -2015. -№ 3 (53). -С. 140-146.
- Политическая идентичность и политика идентичности. В 2 т. Т.1: Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий/Отв. ред. И.С. Семененко. -М.: РОССПЭН, 2011.
- Тюкаркина О.М. Образ врага в международных отношениях и его роль в формировании внешнеполитического курса государства//Мир и политика. -2013. -№ 10. -С. 181-194.
- Чернобров Д.В. Эволюция «образа другого» в конфликтах современности: конструктивистский подход//Вестник МГИМО университета. -2012. -№ 6. -С. 47-53.
- Цырфа Ю.А. Теоретические основы формирования внешнеполитической идентичности актора международных отношений//Вектор науки ТГУ. -2014. -№ 1. -С. 174-178.
- Kulikova L.V., Detinko I.I. Construction of Political "Others" Through Multimodal Texts (Cartoons) in British Press//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. -2014. -№ 7. -Pp. 1381-1392.
- Tsygankov A.P. Russia’s Foreign Policy. Change and Continuity in National Identity. -Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 2006. -293 p.