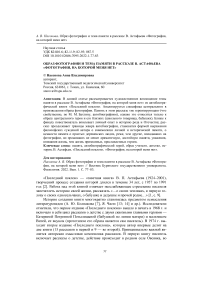Образ фотографии и тема памяти в рассказе В. Астафьева "Фотография, на которой меня нет"
Автор: Насонова Анна Владимировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается художественное воплощение темы памяти в рассказе В. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» из автобиографической книги «Последний поклон». Анализируется специфика центрального в произведении образа фотографии. Память в этом рассказе «не героизирующая» (что свойственно, по М. М. Бахтину, автобиографиям), однако это относится только к образу центрального героя и его близких (школьного товарища, бабушки). Ближе к финалу повествователь вписывает личный опыт в историю рода и Отечества; рассказ преодолевает границы жанра автобиографии, становится формой выражения философских суждений автора о взаимосвязи личной и исторической памяти, о ценности памяти о простых деревенских людях, реже, чем другие, попадавших на фотографии, но проживших не менее драматичную, достойную памяти, уважения, внимания жизнь, чем жизнь признанных, прославленных героев.
Память, автобиографический герой, образ учителя, детство, история, в. астафьев, последний поклон, фотография, на которой меня нет
Короткий адрес: https://sciup.org/148324339
IDR: 148324339 | УДК: 82:801.6,
Текст научной статьи Образ фотографии и тема памяти в рассказе В. Астафьева "Фотография, на которой меня нет"
Насонова А. В. Образ фотографии и тема памяти в рассказе В. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. Вып. 1. С. 77‒83.
«Последний поклон» — «заветная книга» В. П. Астафьева (1924–2001), творческий процесс создания которой длился в течение 34 лет, с 1957 по 1991 год [2]. Работа над этой книгой означает неослабевающее стремление писателя запечатлеть историю своей жизни, рассказать «…о своих земляках, в первую голову о своих односельчанах, о бабушке и дедушке и прочей родне…» [1, с. 9].
История создания книги многократно становилась предметом осмысления литературоведов (А. Ю. Колпакова [7], Я. Чжэн [13; 14] и др.). Исследователи отметили, что первое издание «Последнего поклона» вышло в печать в 1968 г. и включало в себя цикл рассказов о детстве с двумя сквозными главными героями — Катериной Петровной Потылицыной (бабушкой по линии матери) и мальчиком Витей, ее внуком (прототипом его образа является сам писатель). В 1974 г. выходит второе издание «Последнего поклона», которое автор впервые делит на две книги (15 рассказов в первой и 9 — во второй). Принципиально важной является авторская смысловая компоновка рассказов. В первую книгу писатель включает рассказы о детстве, действие происходит в родном селе Овсянка, во вторую — рассказы об отрочестве и юности героя. В 1991 г. работа над «Последним поклоном» завершается [13].
В 1997–1998 гг. вышло собрание сочинений В. П. Астафьева, отредактированное им самим. «Последний поклон», чей жанр обозначен автором как повесть в рассказах, занимает 4 и 5 том, его итоговая структура такова: первая часть содержит 12, вторая — 9 и третья — 11 рассказов. В них повествуется о прошлом сибирской деревни Овсянка, ее людях, которые существуют в системе семейных, бытовых, личных отношений [14], но на авторском уровне прочерчивается связь частной и большой истории.
С первых изданий «Последний поклон» в критике и литературоведении рассматривался как автобиографическое произведение о детстве, хотя рассказы последней части посвящены юности центрального героя: «Детство становится предметом раздумий автора, а подчас и воспоминания о детстве становятся объектом повествования, образуя сложную систему хронотопа произведений» [6].
В данной статье методологическую основу анализа автобиографического рассказа В. П. Астафьева составляют работы М. М. Бахтина, Н. А. Николиной, Е. А. Полевой. По мнению М. М. Бахтина, «“память” в автобиографиях имеет особый характер: это память о своей современности и о себе самом. Это негеро-изующая память... Это личная память …, ограниченная пределами личной жизни…» [5, с. 467]. Анализируя автобиографии о детстве писателей второй полвины ХХ — начала ХХI в. с опорой на работы М. М. Бахтина [4], Н. А. Николиной [8], Е. А. Полева отмечает «распределение ролей и функций» между повествователем и автобиографическим героем: «В случае же различения рассказчика (или повествователя) и автобиографического героя … возникает не просто распадение одного сознания на действующее и созерцающее-описывающее: в художественной автобиографии о детстве повествователь (или рассказчик) привносит завершающие моменты в образ персонажа, часто договаривая за него то, что персонаж-ребенок не может понять, осмыслить» [10, с. 87]. Сфера персонажа в таких произведениях – «эмоции, переживание, непосредственный опыт», а повествователя – «обобщение, подведение итогов, улавливание закономерностей, концептуализация опыта» [10, 11].
Автобиографическая проза о детстве, как отмечает Е. А. Полева, строится с опорой на поэтику психологизма, потому что «призвана передать внутренний мир героя-ребенка посредством описания различных состояний чувств, мыслей, желаний, нюансов переживаний» [11, c. 176], «а также часто философична или этико-назидательна, так как рассуждения повествователя, как правило, поднимаются над конкретикой частной жизни, над экзистенциальными (выбор, ответственность, вина) и онтологическими (жизнь и смерть, бытийно обусловленное исчезновение детства, взросление) вопросами. И третье: поэтизация жизни ребенка, свойственная автобиографиям, обусловливает лирическую модальность в повествовании, усиленную и тем, что объектом художественного изображения становится не прошлое вообще, а собственное детство» [10, с. 88]. В автобиографии, как точно отметила Н. А. Николина, значимо часто встречающееся совмещение двух временных пластов – прошлого и настоящего [8, с. 392]. Все вышесказанное об автобиографической прозе относится к рассказу, ставшему материалом исследования.
В рассказе В. П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» (впервые опубликован в 1968 г. в сборнике «Далекая и близкая сказка»), входящем в книгу «Последний поклон», автобиографический герой — Витя Потылицын, изображенный в поступках, действиях, общении с окружающими. Его опыт, судя по рамочному обрамлению в финале рассказа, служит повествователю для сопоставления прошлого и настоящего, для осмысления жизни и судеб людей, окружавших героя в детстве, в долгой временной проекции. Фабульное время рассказа — 30-е гг. XX в., но завершающие рассуждения повествователя расширяют временные границы до послевоенной поры.
Повествование в рассказе ведется сначала от лица маленького мальчика, а заканчивается зрелыми размышлениями взрослого человека. Как отметила Н. Поззорова, «лирический герой “Последнего поклона”… оставаясь… пытливым, бедовым сибирским мальчишкой, или подростком, мужающим в тяжкой необходимой работе, обостренно чувствующим юношей, этот герой то сливается с литературным “я” Виктора Астафьева, то выдвигает в главные герои самого автора, его сегодняшнего — писателя, обогащенного опытом не только своей личной судьбы. Виктор Астафьев и Виктор Потылицын рассказывают о пережитом вместе, и это позволяет читателям ощутить огромную глубину бытия, одновременность, сплав сильных проявлений творящейся жизни» [9].
Главный герой, Витя Потылицын, рассказывает о «неслыханном и важном событии» — о приезде в деревню из города фотографа для того, чтобы «…фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным , а нас, учащихся овсянской школы» (здесь и далее курсив мой. — А. Н. ) [3, с. 166]. Таким образом, фотография в детском сознании связана с увековечиванием памяти, а это может случиться только с тем, кто этого заслуживает. То есть оказаться на фотографии для деревенского мальчишки — значит, ощутить свою значимость, осознать свое право быть увековеченным.
Исключительность события, предположим, была связана еще и со спецификой процесса фотосъемки в 20–30-х гг. ХХ в. Для деревенских жителей, особенно детей, фотография была сродни волшебному сказочному событию, учитывая, что долгое время фотографирование сопровождалось вспышкой магния, ярким, обильным выделением света и белого дыма. Сродни волшебству была и сама фотография, запечатлевающая действительность.
Фотография долгое время оставалась знаком привилегированности, так как главными героями фотоснимков становились, как правило, чем-то отличившиеся люди – военные, ученые, люди труда. Именно поэтому ученики овсянской школы, во-первых, приходят в небывалое возбуждение, ожидая событие фотосъемки, во-вторых, переносят общие представления о том, что на фотографии оказываются самые лучшие, на свою ситуацию: «…нашу школу взбудоражило… Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядке выходило не в нашу с Санькой пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние — в середине, плохие назад» [3, с. 167]. В сознание детей не входит эстетическое восприятие фотографии (они и не предполагают, что их усадят так, чтобы создать композицию группового портрета), а примеряют к ней этические мерки: плохих учеников разместят на задний план, их не будет видно.
Проиграв бой за место на фотографии, Витька с Санькой пошли кататься с обрыва, как бы компенсируя отсутствие учебных достижений удальством. Но, намокнув в снегу, Витя заболел и в заветный долгожданный день не смог пойти в школу, чтобы быть на фотографии.
Восстановление этой частной истории фабульно возникает из-за просмотра фотографии, на которой повествователя нет. То есть отсутствие «увековечивания» запускает механизм памяти. Этот нюанс уже подмечался исследователями. Однако нам важно отметить и другое: возникают воспоминания не только и не столько о себе, но и о многих других, кого на фотографии нет. Получается, запечатленной в артефакте памяти Астафьев противопоставляет память писательскую. То, что не закрепилось в зримом образе, восстанавливается в слове. Так возникает целый ряд образов, которых на фотографии нет, но которые с этой фотографией связаны. Это значит, что вещь, предмет важны как запуск памяти о прошлом.
Кого на фотографии нет? Прежде всего нет бабушки, готовой среди ночи топить баню, искать нужную склянку с лекарством и растирать безжизненные ноги своему внуку, чтобы облегчить ему боль и помочь: «Долго растирала бабушка мои ноги, запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня…» [3, с. 169].
Яркость события способствует объемному, многогранному проявлению образа бабушки, испытывающей в этих обстоятельствах одновременно и гнев, и сострадание. Брань («…Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и печенки, не говорила: “Не студися1, не студися!”» [3, с. 168]) пересекается с лаской и молитвой («Спи, пташка малая, господь с тобой и анделы во изголовье…забормотала молитву пресвятой богородицы…» [3, с. 168]), в ней есть и любовь, и грубость, и строгость, но нет ненависти и зла.
На фотографии нет и Саньки, соседа, который становился инициатором многих неприятностей Вити. Но именно этот случай проявил наличие в отъявленном хулигане способности к дружеской поддержке, к самоотверженному и великодушному поступку: «…Раз так, я тоже не пойду! Все!..» [3, с. 170]. И Витя по-новому открывает для себя характер товарища: «То измывается надо мной, вред мне наносит, а тут восчувствовал» [3, с. 175].
Нет на фотографии и жителей-взрослых, но память о них восстанавливается опосредованно, через воспоминание о том, как односельчане относились к учителям, занимающим (что символично) самый центр фотографии: «…в гуще ребят, в самой середке — учитель и учительница…» [3, с. 175]. Именно учитель принес фотографию Вите, и это вселило надежду на чудо. Со всей детской эмоциональностью и наивностью рассматривает ее Витя, пытаясь найти или представить, что они там с Санькой есть: «Вот и не видно его (Саньки. — А. Н. ) на фотографии. И меня не видно. Еще и еще перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня “худа немочь”» [3, с. 175].
Но в каком-то смысле магия происходит через много лет. Образ учителя, во многом ментально чуждого жителям деревни, воссоздается через целую цепочку воспоминаний, а в них воскресают в памяти и образы односельчан, которых на фотографии нет. Жители, наделяя учителя авторитетностью, незаметно для него берут над его семьей опеку, платя заботой за его труд. Это отчетливо видно в эпизодах про валенки («Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катанках. Умыкнули бабы катанки — и к сапожнику.снесли., чтоб с учителя, ни боже мой, копейки не взял.» [3, с. 177]), дрова («Бабушка, конечно, знает, кто свалил учителю дрова. И всем это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает» [3, с. 176]), школьные лавки («Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли…» [3, с. 178]), другие формы заботы («Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока либо сметанки, творогу, брусники туесок» [3, с. 177]). Один из героев, увлекающийся алкоголем, бьющий свою жену и гоняющий детей, меняет свою жизнь после только Богу известной фразы, сказанной ему учителем. То есть образ учителя приближается в сознании деревенских жителей к священнослужителю, к носителю бытийной истины. И заблудший после беседы, как будто после исповеди у священника, встает на путь исправления и готов защищать учителя самым решительным образом: «…каждому башку сверну, если такого человека пообидят!» [3, с. 177]. Воссоздавая в рассказе галерею крестьянских образов, групповой портрет своих односельчан, отсутствующих на фотографии, но сохранившихся в памяти, Астафьев закрепляет в тексте о них русский национальный характер, свойственное деревенским людям проявление любви, суровое, парадоксальное, но искреннее.
Существенное место, отведенное в рассказе образу учителя Евгению Николаевичу, определяет авторскую концепцию деревенской жизни. При всем прагматизме крестьянского бытового существования они испытывали уважение к учителю как носителю культурных и духовно-нравственных ценностей. Вспоминая частный эпизод, повествователь резюмирует: Евгений Николаевич был готов «...броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь» [3, с. 180-181]. В логике рассказа эта готовность защищать, проявленная учителем, соотносится с масштабным событием - Великой Отечественной войной. В авторской концепции такие учителя, во-первых, навсегда остаются в памяти как образ личности, как ценностный ориентир: «.фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово “учитель”» [3, с. 181]. Во-вторых, по сути, Астафьев подтверждает ставшую крылатой фразу о том, что нравственный облик народа-победителя в ВОВ определяется именно учителями, которые как бы присутствуют в каждом: учителя трудятся, «чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька» [3, с. 181].
Фотография, которая сама по себе несет функцию закрепления прошлого, чтобы его легко можно было вспомнить, в рассказе является катализатором памяти о том, чего на фотографии нет, но что связано со временем и местом, запечатленным на ней.
Как и в других рассказах «Последнего поклона», здесь «для понимания авторской концепции произведения» важен условно-символический план [12, с. 182]. Образ отсутствующего на фотографии героя обретает символическое значение. Повествователь обозначает связанные с войной судьбы жителей и отмечает, что многие подлинные герои также остались не увековечены на фотографиях, в других артефактах. Но это не снижает ценности героизма простых людей, память о которых необходимо сохранить.
Фотография в рассказе выполняет не только функцию фиксации образа, но и своеобразного портала, коридора памяти. В сознании благодаря ей восстанавливается история своего рода, своей деревни, а в ней отражается горькая история и всей советской России.
В последних словах рассказа отражено авторское мнение: «Деревенская фотография — своеобычная летопись нашего народа, настенная его история» [3, с. 182]. А заглавие и само повествование в рассказе выражают идею о том, что нужно уметь видеть на фотографии то, чего на ней формально нет. Видеть не внешнюю деревенскую нелепость, а внутреннее достоинство и силу запечатленных личностей, драматизм судеб крестьян, прошедших через роковые события первой половины ХХ в.
Список литературы Образ фотографии и тема памяти в рассказе В. Астафьева "Фотография, на которой меня нет"
- Астафьев В. П. Последний поклон. Москва, 1989. Текст: непосредственный.
- Астафьев В. П. Последний поклон: повесть в рассказах. Комментарии (авторские). Москва, 2010. 795 с. Текст: непосредственный.
- Астафьев В. П. Последний поклон: повесть, рассказы. Ленинград: Лениздат, 1982. 702 с. Текст: непосредственный.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / составитель С. Г. Бочаров; примечания С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. Москва: Искусство, 1979. 423 с. Текст: непосредственный.
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Москва: Художественная литература, 1975. 504 с. Текст: непосредственный.
- Витык Ю. И. Художественная реализация темы детства в книге Виктора Астафьева Последний поклон»: к постановке проблемы // Филология, социология и культурология. Актуальные научные проблемы: сборник научных докладов. Гданьск, 2015. С. 94–98. Текст: непосредственный.
- Колпаков А. Ю. Система концовок рассказов и образ мира в «Последнем поклоне» В. П. Астафьева // Вестник КГПУ им. В. П. Астафьева. 2010. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-kontsovok-rasskazov-i-obraz-mira-v-poslednem-poklone-v-p-astafieva (дата обращения: 08.03.2022). Текст: электронный.
- Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы. Москва: Флинта: Наука, 2002. 424 с. Текст: непосредственный.
- Поззорова Н. Корни и побеги. Проза 60–70 гг. Литературные портреты, статьи, полемика. Москва: Московский рабочий, 1979. 216 с. Текст: непосредственный.
- Полева Е. А. Жанр автобиографического миниатюрного рассказа о детстве: проза Ангелики Сумбаевой // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2017. Вып. 2(179). С. 87–92. Текст: непосредственный.
- Полева Е. А. Приемы визуализации в формировании мотива искушения в рассказе Виктора Астафьева «Конь с розовой гривой» // ПРAΞHMA. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 3. С. 182–196. Текст: непосредственный.
- Полева Е. А., Писаренко А. Е. Приемы психологизма в рассказе В. Распутина «Уроки французского» // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2016. Вып. 11(176). С. 131–136. Текст: непосредственный.
- Чжэн Я. «Последний поклон» В. П. Астафьева (История создания. Жанр. Система персонажей). Москва, 2012. 26 с. Текст: непосредственный.
- Чжэн Я. «Последний поклон» В. П. Астафьева: история создания. Жанр // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2011. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/posledniy-poklon-v-p-astafieva-istoriya-sozdaniya-zhanr (дата обращения: 23.12.2021). Текст: электронный.