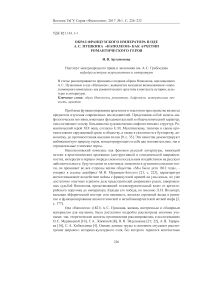Образ французского императора в оде А. С. Пушкина "Наполеон" как архетип романтического героя
Автор: Артамонова Ирина Валерьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются принципы создания образа Наполеона, воплощенного А. С. Пушкиным в оде «Наполеон», выявляется механизм возникновения «наполеоновского комплекса» как романтического архетипа в контексте истории, культуры и литературы.
Образ наполеона, романтизм, байронизм, историческая личность, архетип
Короткий адрес: https://sciup.org/146121991
IDR: 146121991 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Образ французского императора в оде А. С. Пушкина "Наполеон" как архетип романтического героя
Проблема функционирования архетипов в текстовом пространстве является предметом изучения современных исследователей. Представляя собой модель мифологических мотивов, имеющих фундаментальный и общечеловеческий характер, они составляют основу большинства художественно-мифологических структур. Романтический герой XIX века, согласно Е. М. Мелетинскому, типичен в своем противостоянии окружающей среде и обществу, а также в склонности к бунтарству, демонизму, до противостояния высшим силам [9, с. 35]. Эти качества демонстрируют амбивалентную природу героя, концентрирующего в себе как положительные, так и отрицательные этические черты.
Наполеоновский комплекс как феномен русской литературы, имеющий истоки в архетипических проекциях (деструктивной и созидательной направленности), интересен в первую очередь своим колоссальным воздействием на русскую действительность: будучи одним из ключевых элементов в духовном сознании эпохи, он проникает во все стороны жизни общества. «Мы были дети 1812 года», – говорил в ссылке декабрист М. И. Муравьев-Апостол [21, с. 225], характеризуя всепоглощающее воздействие войны с французской армией на умы юных, но уже достаточно опытных в ратном деле представителей дворянских родов, завороженных судьбой Наполеона, представлявшей головокружительный взлет от артиллерийского поручика до императора. Каждая его победа, по мнению Л. И. Вольперт, вызывая эйфорический восторг или ненависть, вносила огромный вклад в развитие и функционирование апологетической и антибонапартистской ветвей мифа [2, с. 177].
Ода «Наполеон» (1821) А. С. Пушкина, являясь интересным и обширным материалом для изучения, была достаточно подробно рассмотрена многими учеными: так, теоретические аспекты произведения рассматривались в исследованиях О. С. Муравьевой [10], Т. А. Ложковой [8], Н. Я. Эйдельмана [21; 22], А. В. Тарара-ка [16], С. А. Кибальника [4]. Однако данные труды в основном опускают рассмотрение широкого историко-культурного слоя, без которого теряются контекстные и автобиографические уровни и некоторые интересные детали, необходимые для целостного литературоведческого анализа поэтического произведения.
Большинство исследователей отмечает, что ода была написана А.С. Пушкиным после того, как 18 июля 1821 года поэт получил известие о кончине французского императора (он ушел из жизни на о. Св. Елены 5 мая 1821 г., однако, находясь в южной ссылке, Пушкин узнает об этом событии лишь спустя три месяца) [22, с. 104]. Вместе с тем С. М. Шварцбанд, проводя глубокий анализ черновиков А.С. Пушкина, говорит о том, что замысел оды, его постепенное зарождение можно найти в рабочих тетрадях поэта, датированных началом 1821 года, а также и после вышеуказанной даты. Также он делает любопытный вывод о том, что исследователи однозначно трактуют пушкинскую заметку о смерти императора, связывая ее с одой на смерть Наполеона, – мнимая однозначность французского текста и различная датировка (старый и новый стиль) событий вносит неточности в ход исследовательского процесса [20, с. 295–296]. «Nouvelle» (фр. новость ) от 18 июля, направившая специалистов, по мнению С. М. Шварцбанда, на ложный след, явилась свидетельством получения А. С. Пушкиным деталей о смерти императора, а не о самом факте смерти, которое, согласно анализу черновых набросков и содержащихся в них рисунках, могло быть получено ранее.
С. А. Кибальник отмечает разнонаправленность байронического мотива в этом произведении: образ добровольного изгнания или бегства, характерный для творчества английского поэта, переплетается с личными мотивами высылки-изгнания из столицы. Исследователь проводит построчное сравнение с произведениями Дж. Г. Байрона, находя сходные мотивы и мысли, а также вариации и переосмысления английской версии образа Наполеона [4, с. 40–42]. О. С. Муравьева также отмечает влияние Байрона на творчество Пушкина в «наполеоновском» контексте: образ героя-преступника Бонапарта, отважного деспота, являет собой типический образец «irlain-hero», популярного в романтической литературе (этот же мотив мы увидим в «Дочери Карагеоргия» (1823)) [10, с. 13]. Таким образом, центральной фигурой в произведении является сильная личность, страстная и противоречивая, чьи помыслы направлены к свободе как к единой цели на пути развития. Конфликт с обществом для беглеца носит индивидуалистический характер – он попадает в плен собственных страстей, где «от судеб защиты нет».
«Народная свобода», с точки зрения Пушкина, должна сочетать в себе отмену крепостного права и политическую свободу. Однако господствующий режим цензуры не позволил печать стихотворения полностью. Как утверждал А. С. Пушкин в письме своем брату Л. С. Пушкину, «лучшие строфы потонут» [14, с. 148], и действительно, впервые ода увидела свет без III строфы, которая была заменена точками, а также без IV, V, VI и VIII строф, где говорится о победоносных завоеваниях Наполеона, победе революции над абсолютизмом и гибели Европы.
С. Франк рассматривает политическое мировоззрение А.С. Пушкина как консерватизм, имеющий либеральные начала, то есть немыслимый без культурной эволюции и независимости личности, которых ему не хватало при Николае I. Его концепция мировосприятия подразумевала несколько аспектов: во-первых, необходимость избранности правителя, что в его творчестве отражалось в антагонизме гения и презренной черни; во-вторых, исторической традиции, составляющей основу политической деятельности, протекающей без насилия и переворотов. Трагизм отвергнутого и непонятого поколением гения относится и к образам Наполеона и Петра Первого, имеющих у А. С. Пушкина форму культа [19, с. 400–413].
Т. А. Ложкова в своей статье дает разностороннюю характеристику произведения, отмечая особый драматизм, присущий автору, а также острый внутренний конфликт и глубокую эмоциональность произведения. Она рассматривает данное произведение не с точки зрения значимости деятельности французского императора в ходе исторического процесса, а с позиции отношения лирического героя к его противоречивому образу [8, с. 63]. «Наполеон» представляет собой «оду на кончину» по примеру литературных канонов XVIII века, проникнутую восторгом и эмоциональными переживаниями, перекрывающими все остальные возникающие чувства.
Сюжетный динамизм находится в прямой зависимости от внутреннего конфликта героя, проходящего все перипетии его военных кампаний (Аустерлиц, Тильзит, пожар Москвы), горечь поражения и блеск величия. Субъективизм исконно русского мировоззрения отражается в следующих строках: «Тильзит!.. (при звуке сем обидном / Теперь не побледнеет росс) <…> Померкни, солнце Австерлица! / Пылай, великая Москва! / Настали времена другие: / Исчезни, краткий наш позор!» [12, с. 252–253].
Образ французского императора, созданный в сознании русского общества пропагандистскими силами, подчеркивающими романтичность поворотов его судьбы, противоречит уготованной ему участи отстраненного титана на скале острова Св. Елены, для описания которой А. С. Пушкин использует большой спектр мотивов и образов – закат, мрак и угасание. Однако лирический герой, с одной стороны, очарован неоднозначностью исторической личности, с другой, – из его биографии невозможно вычеркнуть так называемый «кровавый след», который был причиной неприязненного отношения к императору современников. Так, смерть Наполеона в изгнании имела широкий общественный резонанс: «Несчастный гигант приютился на английской земле. Уничтожит ли леопард пораженного ударом молнии орла, павшего к его ногам? Подлость! Вечный стыд! Унижение! Наполеон нашел цепи на гостеприимной земле, где гнусные руки вяжут великого человека, сдавшегося закону; и английский гений закрывает свое смиренное чело плотной вуалью» (пер. с франц. наш. – И. А.) [26, с. 28], – такова образность дифирамба на его смерть, написанного Т. Муром и переведенного на французский язык лордом Байроном, отношение которого к французскому императору также в зависимости от времени было вариативным – от восхищения до осуждения.
Вместе с тем Н. Эйдельман отмечает, что в начале черновой рукописи «Наполеона», хранящейся в Пушкинском доме, есть строка «Ingrata patria» (неблагодарная отчизна) [21, с. 237] – о Франции и ее отношении к своему гениальному императору. Обращение к древнему тексту не случайно: так, у Тита Ливия находятся следующие строки, которые относятся к герою II Пунической войны Корнелию Сципиону, подвергшемуся обвинениям в денежных махинациях от своих политических противников: «…morientem rure eo ipso loco sepeliri se iussisse ferunt monumentumque ibi aedificari, ne funus sibi in ingrata patria fieret. “<… > Передают, что перед смертью он распорядился, чтобы его похоронили там же в его имении и там воздвигнули ему памятник, чтобы и могила его была вдали от неблагодарной родины ”» (курсив наш. – И. А.) [7].
Знакомство А. С. Пушкина с античными текстами не подлежит сомнению, поскольку «он часто обращался к ним в решающие моменты своей жизни и творчества и иногда сливался с ними до такой степени, что говорил о себе их языком, например языком Овидия о своей ссылке в Бессарабию и языком Тацита о своем положении в Михайловском» [13, с. 27]. Однако вопрос «Пушкин и Тит Ливий» представляет собой исследовательскую лакуну несмотря на большое количество научных изысканий в данной области [5; 15; 17; 23], хотя, согласно воспоминаниям Якушкина, труды древних историков «были у каждого из нас почти настольными книгами» [1, с. 163].
Остров Святой Елены, несомненно, является одной из доминант образной системы произведения. В пушкинских строках «знойный остров заточенья» объединяет образы «неволи», «великолепной могилы», а также характеристику морального состояния поверженного императора: «Искуплены его стяжанья / И зло воинственных чудес / Тоскою душного изгнанья / Под сенью чуждою небес» [12, с. 253].
Отвергнутый французами император был похоронен на месте ссылки, и его прах доставили в Париж только в 1840 году, о чем А. С. Пушкин знать уже не мог. Данный факт усиливает пророческую мысль поэта, отраженную в аллюзии на античный сюжет.
Избранность личности Наполеона, которую А. С. Пушкин подчеркивает различными средствами художественной выразительности, несет в себе глубокую смысловую нагрузку и парадоксальность. Оксюморонные, антитетические и гиперболические конструкции, применяемые поэтом, создают романтический и таинственный ореол вокруг его имени. Наполеон, «земли чудесный посетитель» [3, с. 307], воспринимается как посланец из другого мира благодаря «удачно» созданной легенде; ключ к ее разгадке лежит в его кометоподобной судьбе с головокружительным взлетом и сокрушительным падением, не свойственной обычным людям. Та же мысль высказывается В. Гюго в сборнике «Lesorientales» в поэме «Lui» (1827): “Tu domines notre âge ; ange ou démon, qu’importe! / Ton aigle dans son vol, haletants, nous emporte” [25, с. 180] («Ты превосходишь наш век; ангел или демон, неважно! / Нас несет твой орел, в полете затаивший дыхание»; пер. с франц. наш. – И. А.).
Иллюзорность его торжества и театральности появляются в данном произведении, предвосхищая толстовского Наполеона-актера. Как отмечает С. Паже: «Действительно, ни один французский лидер не вел себя столь театрально и зрелищно, как он, – вот почему он очаровывал целые поколения. Его ближайшее окружение, распространяющее легенду, восхищалось его неоспоримой личной харизмой и даже, как некоторые отмечают, непреодолимым магнетизмом» (пер. с франц. наш. – И. А.) [27, с. 11]. Индивидуализм тщеславного завоевателя противопоставляется всесильной Истории, «длани народной Немезиды», лишающей его власти, трона и славы. «Тиран» – романтическое воплощение социального зла, однако лирический герой видит в нем растерянного и разочарованного в своих прежних идеалах узника, отца, открывшего в себе спасительную любовь к сыну: «Один, один о милом сыне / В унынье горьком думал он»» [12, с. 254].
Вместе с тем необходимо отметить очень важный момент: согласно обширному исследованию М. Ф. Мурьянова [11, с. 62–69], образ могилы полководца представляет собой гармоничный симбиоз исторического материала и художественной мысли, в том числе «великолепная могила… / Над урной, где твой прах лежит, / Народов ненависть почила» [12, с. 251] является плодом пушкинского воображения и, как объясняет ученый, противоположна реальным фактам. Так, в журнале «Maga-zin pittoresque» (1840) дается следующее описание места захоронения Наполеона на о. Святой Елены: «Могильная плита, длиной в семь-восемь и шириной в пять-шесть шагов, не имела никакой надписи. <…> Мадам Бертран посадила рядом цветы, но они не выжили. Каждую весну делались попытки посеять новые, но они погибали подобно своим предшественникам: их губили ливни. Четыре плакучие ивы создавали тень над скромной усыпальницей» [24, с. 355] (пер. с франц. наш. – И. А.). Эмоциональный накал, подкрепленный одико-гимнической лексикой, выражается аскетично и кратко: «Приосенен твоею славой, / Почий среди пустынных волн!» [12, с. 251].
М. Ф. Мурьянов объясняет партитивность наполеоновской славы тем, что для А. С. Пушкина она не освещает могилу, подобно солнцу, а приосеняет ее, тем самым оставляя недописанной его эпитафию, несмотря на состоявшуюся кару и искупление. «Оный камень» [Там же, с. 253] представляет собой не саму могильную плиту, а весь остров Святой Елены в целом, наполеоновскую Голгофу, тогда как в образ одного путника собраны все будущие посетители [11, с. 67], а «слово примиренья» – это будущая надпись, для которой, по мнению исследователя, мог бы подойти провидческий и экспрессивно окрашенный финал произведения.
А. С. Пушкин оправдывает своего одиозного героя: он, завещавший миру «вечную свободу», не властен над объективными силами, управляющими историей по своим законам. Таким образом, Т. А. Ложкова выводит данное произведение в разряд предреалистических, отмечая снижение романтизации характеристик среды и внутреннего мира героя [8, с. 66], что получит дальнейшее развитие в прозаических произведениях.
Совокупность теоретических аспектов литературоведческого анализа и богатое историко-культурное наследие пушкинского времени и самого поэта в частности позволяет проследить механизм трансформации исторического мифа о Наполеоне, родившегося в самом начале его грандиозных военных побед, в литературный архетип. Сливаясь воедино, реальный биографический образ и романтический миф становятся единой системой, ядром которой является выдающаяся историческая личность.
About the author:
ARTAMONOVA Irina Valeryevna – Postgraduate Student at the Department of Journalism History and Literature, Institute of International Law and Economics named after A. S. Griboyedov (111024, Moscow, Enthusiastov shosse, 21), e-mail: littleby@mail. ru.
Список литературы Образ французского императора в оде А. С. Пушкина "Наполеон" как архетип романтического героя
- Амусин И. Д. Пушкин и Тацит//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 160-180.
- Вольперт Л. И. Лермонтов и литература Франции. Тарту, 2010. 276 с. . URL: http://www.ruthenia.ru/volpert/Volpert_2010.pdf. (Дата обращения 20.04.2016.)
- «Зачем ты послан был и кто тебя послал?..»//Пушкин А. С. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1985. С. 307.
- Кибальник С. А. Тема изгнания в поэзии Пушкина//Пушкин. Исследования и материалы. Т. 14. Л.: Наука., 1991. С. 33-50.
- Кнабе Г. С. Пушкин и античность//Кнабе Г. С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России: программа-конспект лекционного курса/Рос. гос. гум. ун-т; Ин-т высш. гум. исследований. М., 2000. 238 с.
- Королева С. Ю. Теория мифа и практика литературоведческого анализа: к проблеме междисциплинарных связей //Ruthenia. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/koroleva3.htm. (Дата обращения 21.04.2016.)
- Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений/Н. Т. Бабичев, Я. М. Боровской. М.: Рус. яз., 1982 //Академик. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/1201/Ingr%C4%81ta. (Дата обращения 20.04.2016.)
- Ложкова Т. А. Личность и история в оде А. С. Пушкина «Наполеон»//Филологический класс. 2012. № 4(30). С. 63-66.
- Мелетинский Е. М. О литературных архетипах//Чтения по истории и теории литературы. Вып. 4. М.: Рос. гос. гум. ун-т, 1994. 136 с.
- 10. Муравьева О. С. Пушкин и Наполеон // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIV. 1991. С. 5–32 [Электронный ресурс] // ФЭБ «Русская литература и фольклор». URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/ise/ise-0053.htm. (Дата обращения 21.04.2016.)
- Мурьянов М. Ф. Пушкинские эпитафии. М.: Наследие, 1995. 112 с.
- Наполеон//Пушкин А. С. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1985. 735 с.
- Покровский М. М. Пушкин и античность//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 4/5. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 27-56.
- Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 9: Письма 1815-1830 годов. М.: Худож. лит., 1977. 464 с.
- Пушкин и античность/отв. ред. И. В. Шталь, А. С. Курилов. М.: Наследие, 2001. 141 с.
- Тарарак А. В. Интерпретация наполеоновского мифа в русской литературе XIX -начала XX вв.: монография К.: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2014. 354 с.
- Толстой И. И. Пушкин и античность//Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. XIV. Кафедра русской литературы. Л., 1938. С. 80-82.
- Усок И. Е. Наполеоновский цикл//Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1981. С. 332-333.
- Франк С. Л. Пушкин как политический мыслитель//Пушкин в русской философской критике. Конец XIX -первая половина XX в. М.: Книга, 1990. С. 396-422.
- Шварцбанд С. М. Стихотворный опыт А. С. Пушкина. «Из мрака бездны…»//Toronto Slavic Quarterly. 2010. № 32. С. 286-369.
- Эйдельман Н. Я. Мгновенье славы настает… Год 1789-й. Л.: Лениздат, 1989. 304 c.
- Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М.: Худож. лит., 1979. 422 с.
- Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 92-159.
- Le magazin pittoresque pub. sous la direction de M. Edouard Charton. Huitieme annee P., 1840. 412 p. . URL: https://books.google.ru/books?id=Dp49RYOQnvUC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false. (Дата обращения: 01.05.2016.)
- Lui//Hugo V. Orientales et ballades -Bruxelles.: Louis Hauman et co, Libraires, 1832. 185 p. . URL: https://books.google.ru/books?id=t7srAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=napoleon&f=false. (Дата обращения: 03.09.2016.)
- Moore T. La mort de Napoleon, dithyrambe, traduit de l’anglais par l. Byron precede d’une notice sur la vie de Napoleon -Painparre, 1821. 32 p.
- Page S. Le mythe napoleonien: de Las Cases a Victor Hugo. P.: CNRS Editions, 2013. 272 p.