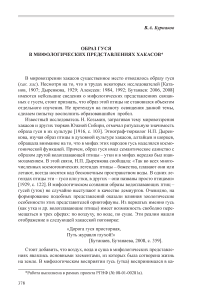Образ гуся в мифологических представлениях хакасов
Автор: Бурнаков В.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521657
IDR: 14521657
Текст статьи Образ гуся в мифологических представлениях хакасов
Известный исследователь Н. Козьмин, затрагивая тему мировоззрения хакасов и других тюрков Южной Сибири, отмечал ритуальную значимость образа гуся в их культуре [1916, с. 103]. Этнограф-тюрколог Н.П. Дырен-кова, изучая образ птицы в духовной культуре хакасов, алтайцев и шорцев, обращала внимание на то, что в мифах этих народов гусь наделялся космогонической функцией. Причем, образ гуся имел семантическое единство с образом другой водоплавающей птицы - утки и в мифах нередко был взаимозаменяем. В этой связи, Н.П. Дыренкова сообщала: «Так во всех многочисленных космогонических легендах птицы – божества, плавают они или летают, всегда носятся над бесконечным пространством воды. В одних легендах птицы эти – гуси или утки, в других – они названы просто птицами» [1929, с. 122]. В мифологическом сознании образы водоплавающих птиц – гусей (уток) не случайно выступают в качестве демиургов. Очевидно, на формирование подобных представлений оказали влияния зоологические особенности этих представителей орнитофауны. Из пернатых именно гусь (как утка и др. водоплавающие птицы) имеет возможность свободно перемещаться в трех сферах: по воздуху, по воде, по суше. Эти реалии нашли отображение в следующей хакасской поговорке:
«Дорога гуся просторная, Путь журавля глухой!»
[Бутанаев, Бутанаева, 2008, с. 359].
Стоит добавить, что воздух, вода и суша в мифологических представлениях являлись основными элементами, из которых была сотворена жизнь на земле. В мифологическом восприятии гусь (утка) воспринимался в ка- честве существа, которому подвластны эти стихии [Катанов, 1907, с. 522], что и предопределило его роль демиурга.
Другим важнейшим фактором, оказавшим влияние на мифопоэтическое восприятие гуся в качестве сакральной птицы, явилось отождествление прилета этих птиц с природными ритмами. Гусь – одна из немногих перелетных птиц, которая с зимовки прилетает раньше остальных и при этом позже улетает. С прилетом и отлетом гусей связывалось наступление весны и осени. Эта особенность нашла отражение в идиоматическом выражении хакасов – «с гусиным снегом» [Бутанаев, Бутанаева, 2008, с. 335]. Соотношение образа этой птицы с сезонным циклом и понятием «время» выявляется в реликтах вредоносной магии хакасов. Так, например, в тексте проклятья ( хааргыс ) опять-таки используется образ этого пернатого:
«До тех пор, пока не прилетят гуси, засохни, До тех пор, пока не прилетят птицы, высохни!» [Там же, с. 227].
Со слов нашего информанта « у хакасов было представление о времени, как о птице. Люди говорили: “Пролетит большая птица, и у человека выпадают волосы”. Ведь со временем, когда человек стареет, у него действительно выпадают волосы » (ПМА-2000, Горбатов В.В., с. Сыры Аскиз-ского района РХ). Не исключено, что этой птицей мог быть гусь.
Наряду с этим, в хакасском фольклоре гусь отчетливо соотносится еще и с солнцем. Н.Ф. Катановым была записана загадка, в которой эта птица олицетворяет данное светило: «Между березами бежит рысью гусь (солнце в то время, когда небо покрыто облаками, идущими вниз реки)» [1907, с. 238]. Реликты представлений о высоком сакральном статусе гуся выявляются в одном из вариантов хакасского мифа о «Совете птиц». В нем сообщается о том, что в качестве предводителя птичьего царства был избран «пестрый гусь». Однако царствовать ему пришлось недолго. Как повествуется в фольклоре, обидев коростеля, он был низвергнут богом с царского трона и превращен в сороку [Совет, 1975, с. 84-85].
Образ гуся имел символическое значение в семейно-родовых обрядах. Так, в прошлом, при сватании невесты жених был обязан исполнить песню своему будущему тестю. В тексте песни опять-таки фигурировал гусь [Катанов, 1907, с. 366]. Кроме того, образ этой птицы был связан с семейным бытом. Причем гусь чаще идентифицировался с мужским началом. Это нашло отражение в следующих идиоматических выражениях и фольклорных текстах: «гусь-вожак» (свекор), «страшный гусь» (свекор), «хас палазы хасха ирке, кізі палазы кізе ирке» – ‘гусенок мил гусю, человеческий отрок мил человеку’ [Бутанаев, Бутанаева, 2008, с. 219, 335], «Отправимтесь в русскую землю! Поймаем-те гусенка! Пусть тот, кто поймает гусенка, будет женщиною, имеющею ребенка!» [Катанов, 1907, с. 259]. Наряду с этим, в народных приметах сна образ гуся символизировал душу человека: «Когда во сне видишь белого гуся, это означает, что видишь душу девушки, женщины или просто хорошего человека» (ПМА-2000, Боргоякова Ф. Е. с. Аскиз РХ).
В мифологическом сознании хакасов с образом гуся могли соотноситься не только отдельные обитателями дома (юрты), но при этом само жилище могло символизировать гнездо. Так, в загадках о юрте, последняя всегда предстает в образе птичьего дома: «гнезда ста птичек на одном месте» (решетка юрты), «большая птица улетела, а гнездо ее осталось» (снятие юрты), «есть птица, которая погремит-погремит и улетит на сарай, расправивши свои крылья (когда откочевывают, то ставят решетку, которую покрывают берестою) [Катанов, 1907, с. 255, 258, 281]. Необходимо добавить, что в хакасском языке одним из вариантов названий семьи и поколения в целом является термин « уйа » – ‘гнездо’ [Бутанаев, 1999, с. 162].
Образ гуся – птицы-медиатора, осуществляющего посредничество между небом, землей и водой занял существенное место в шаманизме тюрков Южной Сибири [Радлов, 1989, с. 368; Потанин, 2005, с. 67-68; Дыренкова, 1949, с. 181-184; Потапов, 1968, с. 323; Хлопина, 1978, с. 81; Алексеев: 1984, с. 86, 1992, с. 138-140; Дьяконова, 2001, с. 180]. У хакасов гусь являлся важнейшим тёсем – духом-помощником шамана. Полагали, что он имел пестрое оперенье и именовался « Ынгай-Хоох » ( Ынгай-Гаах ) [Бутанаев, 2006, с. 60, 96]. С его помощью кам отправлялся за душой ( хут ) больного в потусторонний мир. Среди шаманистов гусь слыл умнейшим тёсем , превосходно знавшим все шаманские законы и правила. Не случайно в героической эпике хакасов «пестрый гусь» нарекает именем героя и указывает ему жизненный путь, а в трудную минуту приободряет его [Трояков, 1991, с. 253, 275].
Верили, что гусиный тёс наделен прекрасными «навигационными» способностями и хорошо ориентируется в Верхнем и Нижнем мирах. Во время камлания он сопровождал шамана и быстро находил верный маршрут, давал ценные советы и предупреждал об опасностях. Считалось, что Ынгай-Хоох лучше остальных знает дорогу домой, поэтому возвращение шамана из мистического путешествия осуществлялось при помощи гусиного тёса . В связи с этим, не лишена оснований мысль Г.Н. Потанина о том, что «возвращение шамана на гусе, может быть, находится в связи с представлением о возвращении лета вместе с весенним прилетом птиц из теплых краев <…> Не заключается ли в этих чертах тот смысл, что весна и гром должны возвратится с гусями?» [2005, с. 690]. Подобные воззрения о шаманском духе-помощнике гусе имели широкое распространение среди алтайцев и телеутов [Потанин, 2005, с. 67-68; Радлов, 1989, с. 373-374; Дыренкова, 1949, с. 181-184].
Изображение гусиного духа часто встречалось на шаманских бубнах. Как правило, он рисовался белой краской. Птица изображалась летящей в правую сторону с распростертыми ногами (Архив Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. Ф. 2. Оп. 3. Д. 51. Л. 70). По материалам же В.Я. Бутанаева, дух гуся « Ынгай-Хоох » изобра- 380
жался белой краской в виде свастики. Поэтому свастика имела название « хас танма » – ‘гусиная тамга’ [2006, с. 96].
В шаманской практике хакасов помимо изображений на бубнах, применялись и иные гусиные атрибуты. Так, шаманка Пыйачах Кичеева, проводившая камлания в Аскизском районе в 1980-х гг., использовала крылья домашних гусей, которые прикреплялись к плечам ее одежды [Карачаков, 2004, с. 105]. В прошлом крылья домашних гусей широко использовались не только в утилитарных целях (в качестве веника), но применялись и в обрядовых действах. При помощи гусиного крыла проводился обряд «очищения» человека. Кроме того, в традиционных представлениях отдельные люди, от природы наделенные « хатыг хуйах » (т.е. сильные духом) во время сна, подобно шаманам, могли путешествовать в потустороннем мире верхом на гусе (ПМА).
Итак, подытоживая сказанное, необходимо подчеркнуть, что в мифологической системе хакасов гусю отводилось важнейшее место. Гуся, подобно утке почитали, как демиурга. Одновременно с этим, он воспринимался в качестве сакральной птицы, с прилетом которой связывались ритмы природы. Ритуальные функции гуся были широки, но все, же, основная – осуществление посредничества между мирами. Восприятие гуся в подобной ипостаси предопределило включение его образа в мифо-ритуальную практику шаманизма. Сходство мифологического восприятия гуся хакасами с другими тюркскими народами Южной Сибири свидетельствует о тесных историко-культурных связях этих народов в прошлом.