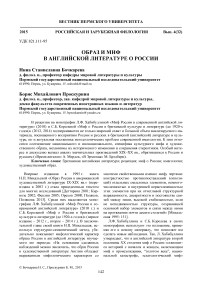Образ и миф в английской литературе о России
Автор: Бочкарева Нина Станиславна, Проскурнин Борис Михайлович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 4 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
В рецензии на монографии Л.Ф. Хабибуллиной «Миф России в современной английской литературе» (2010) и С.Б. Королевой «Миф о России в британской культуре и литературе (до 1920-х годов)» (2012, 2014) подчеркиваются не только широкий охват и большой объем анализируемого материала, посвященного восприятию России и русских в британской (английской) литературе и культуре, но и актуальная постановка методологических проблем современной имагологии. К ним относятся соотношение национального и инонационального, специфика культурного мифа и художественного образа, механизмы их исторического изменения и сохранения стереотипов. Особый интерес и дискуссию вызвал анализ значительных произведений XIX-XX вв., обратившихся к России и русским («Время ангелов» А. Мердок, «В Эрмитаж» М. Брэдбери).
Британская английская литература, рецепция, миф о России, имагология, художественный образ
Короткий адрес: https://sciup.org/14729409
IDR: 14729409 | УДК: 821.111-95
Текст научной статьи Образ и миф в английской литературе о России
Впервые изданная в 1995 г. книга Н.П. Михальской «Образ России в американской художественной литературе IX-XIX вв.» (переиздана в 2003 г.) стала прецедентным текстом для многих исследований [Дегтярева 2001; Кир-нозе 2002; Феклин 2005; Орехов 2008; Поляков, Полякова 2013]. Среди них выделяются монографии Л.Ф. Хабибуллиной «Миф России в современной английской литературе» (2010 г.) и С.Б. Королевой «Миф о России в британской культуре и литературе (до 1920-х годов)» (первое издание – 2012 г., второе – 2014 г.). В заключительной главе своей книги Н.П. Михальская, используя структурно-семантический метод, убедительно показывает мифологический характер образа России в английской литературе изучаемого ею периода: «На основании сделанных наблюдений можно заключить, что образ России в художественной литературе Англии обладает выраженным мифологическим характером со литература; рецепция; миф о России; имагология;
многими свойственными именно мифу чертами: контрастностью противопоставлений (оппозиций) отдельных смысловых элементов, немногочисленностью и внутренней нерасчлененностью этих элементов при их отчетливой структурной выраженности, дискретности и постоянстве связей между ними, высокой стабильностью, если не неподвижностью структуры, сохранившей основной набор элементов и связи между ними на протяжении почти десяти столетий» [Михальская 1995: 151].
Л.Ф. Хабибуллина и С.Б. Королева в своих монографиях используют это положение, применяя его к новому материалу, что позволяет им сделать новые наблюдения. Так, Л. Хабибуллина утверждает, что в английской литературе второй половины ХХ столетия миф о России «становится историей с началом и концом, включающим миф о происхождении, “золотом веке”, национальной катастрофе, эсхатологический миф»
[Хабибуллина 2010: 190]. Исследователь обоснованно делает акцент на переосмыслении цивилизаторских стереотипов, политическом дискурсе и хронотопе путешествия. «Воображаемое национальное» России в английской литературе моделируется на оппозициях: «от “дикой” России до идеальной, воплощающей все лучшие черты западного человека, но лишенной его недостатков, от “страшной” России, ассоциирующейся с тоталитаризмом и насилием, до “смешной”, которая может годиться только для комедии, от нецивилизованной России до России высокой культуры, от не стоящей внимания России до сильной и пр.» [там же: 10].
С.Б. Королева предваряет свою монографию обстоятельной теоретической главой и исследует «инонациональный» миф с опорой на миф «национальный». Отталкивание от понимания «своего» при выработке стратегии понимания «чужого» прослеживается автором на всех этапах формирования и развития мифа о России в британской (главным образом, английской) литературе. С.Б. Королева удачно сочетает монографический и типологический подходы, привлекает исторический контекст в главу об английской «россике» XIX в., весьма противоречивого с точки зрения англо-русских отношений. Это был век, когда две страны были, с одной стороны, необычайно близки (эпоха наполеоновских войн), а с другой – военными противниками (Крымская война 1853–1856 гг.) и соперниками в международной политике и имперских амбициях (знаменитая «Большая игра» конца XIX–XX в. и агрессивная английская русофобия времен балканских войн и «Берлинского мира» 1878 г.). Автор монографии по-новому смотрит на байро-новский миф о России, приводя много интересных и глубоких наблюдений. Вместе с тем нам не хватило вписывания привлекаемых к анализу произведений английских писателей и поэтов (в частности, поэмы Браунинга «Иван Иванович») в общую идеологию викторианства как социокультурной целостности (о ее специфике и отражении в культуре и литературе позапрошлого века см.: [Проскурнин 2009 и др.]). К сожалению, не освещена специфика обращения к русским образам и теме России классиков английской прозы XIX в. – Диккенса, Теккерея, Дж. Элиот и др., что могло бы существенно обогатить размышления об английской «россике» как тогдашнего, так и нынешнего времени.
Основным результатом исследования С.Б. Королевой можно считать вывод о бифуркационных изменениях в восприятии русского мира западным культурным сознанием на рубеже XIX–XX вв. и о появлении нового слоя мифа о России в британской культуре при сохранении элементов других слоев. Эта переоценка была связана, в первую очередь, с обнаружением в русском «своего» христианского [Королева 2014: 149]. Принципиальную роль сыграли и два политических фактора: «связывание (отождествление) русского революционно-демократического движения с английскими демократическими институтами и английской демократической идеологией, а также с их влиянием на русское общество; и растождествление русского государства и русского народа» [там же: 150]. Большое значение для появления моды на все русское в Великобритании 1890–1920-х гг. имела русская литература (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов) [там же: 188–189].
Справедливость вывода о переломе в отношении к России и русским на рубеже XIX–XX вв. подтверждается многочисленными работами российских и зарубежных исследователей русского в британской литературе и культуре. Так, в коллективной монографии «Россия в Британии 1880–1940: от мелодрамы к модернизму» [Beasley, Bullock 2013] расширение верхней границы исследуемого периода позволило обнаружить новое качество – роль русской и советской культуры в становлении британского модернизма в разных сферах искусства (музыка, танец, театр, кино) и других областях культуры (система образования, библиотеки и др.).
Постмодернистский период британской литературы и культуры, на наш взгляд, нуждается в более пристальном исследовании русского дискурса. Сложность такого рода исследований, вероятно, объясняется невозможностью дистанцироваться, незавершенностью процессов. Появляется ли в британской литературе второй половины ХХ в. принципиально новый слой мифа о России? Повлияла ли на него постмодернистская идеология, что изменилось в структуре мифа после «перестройки»? Можно ли начало XXI столетия отделить от конца предыдущего века? Какие произведения рубежа XX–XXI вв. можно считать наиболее значимыми для британского мифа о России, как соотносятся миф, образ и авторская поэтика?
С.Б. Королева убедительно показывает, что «в художественных образах русского мира, созданных в произведениях Р. Киплинга, Дж. Конрада, Б.Шоу, Г. Уэллса, В. Вулф, С. Моэма и менее известных писателей этого времени, элементы разных слоев мифа о России сосуществуют и своеобразно взаимодействуют со структурой образа и текста» [Королева 2014: 271]. Л.Ф. Хабибуллина, напротив, предполагает, что «в творчестве таких “элитарных” авторов, как А. Мердок, К. Эмис, И. Макьюэн, М. Брэдбери, П. Акройд, А. Картер, образы русских или даже
России чаще функциональны; то есть на месте России в некоторых романах вполне можно представить другую страну без ущерба для общей идеи, а на месте русского – другого национального “чужого”. Реализуя собственные концепции, эти авторы склонны в сложной художественной форме транслировать весьма стереотипные представления о России и обыгрывать их, не выходя, впрочем, за их пределы» [Хабибуллина 2010: 9]. Не затрагивая сложную проблему элитарного и массового в постмодернистской культуре, позволим себе вступить в дискуссию по поводу функциональности образа России и русских в литературно-художественном произведении.
На наш взгляд, в имагологических исследованиях образ России и русских часто «выступает автономным, самостоятельным специфическим членом в ряду соотносимых величин, но зачастую как величина мнимая, не совсем действительная, но заимствующая как бы в соседних сферах свои психологические и идеологические компоненты» [Гей 1983: 77]. Между тем художественный образ полисемантичен, неисчерпаем и динамичен. Например, в художественном мире романа М. Брэдбери «В Эрмитаж» ( To the Hermitage , 2000) образ России неразрывно связан с образом Франции, а диалог Дидро c Екатериной II превращается во внутренний диалог героя с самим собой. Миф о России здесь тесно связан с мифом о статуе (см. об этом подробнее: [Бочкарева 2013]). Комический пафос романа распространяется не только на русских, но и на иностранных путешественников, в судьбе которых Россия играет значительную роль. Так, «французский гений» Фальконе, который «работает на Севрской фарфоровой фабрике и совсем не занимается скульптурой» [Bradbury 2001: 485], проявился только в конной статуе Петра I на Сенатской площади в Петербурге. Брэдбери сознательно обыгрывает стереотипы, отдавая дань русской и европейской литературе, и не случайно посвящает свой последний «роман культуры» путешествию в Россию.
На многоаспектном эстетическом уровне функционирует русское начало и в романе Айрис Мёрдок «Время ангелов» (The Time of the Angels, 1966), который обозначил перелом в творчестве автора: после него она решительно перешла на позиции Платона, а ее романы стали менее зависимыми от экзистенциалистских парадигм художественного мышления, в том числе и от идеи «жизненного капкана», в который неизбежно попадает человек как трагическая жертва абсурдности и давящей мистики необъяснимых обстоятельств жизни. В этом романе намечается возможное преодоление такой печальной зако- номерности. И принципиально важно, что эта надежда оказывается связанной с образом русского человека, чья изначальная простота, наивность и открытость противопоставлены агрессивной и программной бесчеловечности ряда английских персонажей романа.
Здесь на «помощь» Мёрдок приходит интертекстуальность, явление, которое, на наш взгляд, часто не только идет за мифом и/или устоявшимся символом, но и переосмысляет и прецедентный текст, и укоренившиеся мифологемы. Например, совершенно определенно можно говорить об интертекстуальной связи этого романа Мёрдок и романа Достоевского «Братья Карамазовы»: идеи, реализованные русским гением в образе Ивана, отражены в образах Кэрела и отчасти Льва Пешкова; растлитель и философствующий циник Федор Павлович «процитирован» Мёрдок в пасторе-безбожнике Кэреле, а несущий в себе Бога Алеша – в Евгении Пешкове.
В определенной степени прочтение Мёрдок героев Достоевского, как и русских вообще, через призму демонизма, свойственное Западу, пронизывающее всю характерологическую, а значит, и сюжетную канву романа, весьма близко к устоявшейся к середине ХХ в. «мифологеме русскости». Но писательница гораздо более объемно видит русских, особенно тех, кто уже давно не живет в России и утратил с нею актуальную связь. Так, при прочтении романа сразу становится очевидным, что в нем доминирует мёрдо-ковская «вариация» идеи Достоевского: «Если Бога нет, то все разрешено». Она отчетливо звучит в образе Льва (не случайно в нем, русском, акцентируется антирусскость, очевидная в его ненависти к отцу как русскому и в «эдиповом комплексе», сюжетно подкрепляемых тягой к Мюриэл, в которой он видит прежде всего материнское начало, и любовью самой Мюриел к его отцу).
Но особенно антирусскость звучит в отношении героя к православной иконе, принадлежавшей в свое время погибшей в нацистском концлагере матери, равно как и в ненависти ко всему русскому и России. В образе Кэреля идея нравственного коллапса из-за отсутствия Бога реализована на программном, осознанном уровне. Отсюда закономерно появление двух типов ангелов в романе с символическим названием: у Евгения – светлых (Святая Троица на его русской иконе), у Кэреля – темных, по большей мере падших, заменивших Бога в его системе духовных начал. Аморальность Фишера, воплощающая по-достоевски «вывернутый мир», еще более очевидна на фоне Пешкова, пусть даже и не фанатично верующего, а с «Христом в сердце» – наивного, чистого, открытого и очень русского.
Мёрдок вслед за Достоевским, но по-своему, утверждает: весьма опасна действительность, в которой человек рождается, наделенный «идеалами содомскими», т.е. различными фантастическими идеями, отделяющими его от столь необходимой в современном мире приближенности к «истинным ангелам» (см. гл. 6 и 7: [Murdoch 2001: 64–76].
В соответствии с канонами жанра философского романа даже то, что Евгений – привратник в доме Фишеров, полно особого смысла: он действительно «открывает ворота» в другой, полный духовности, гармонии, нежности, искренности мир для Патти, когда Кэрел пресытился ею, и для Мюриел, когда отец начал гнать ее из дома.
С другой стороны, реализованные в образе Евгения Пешкова по-английски трактуемый консерватизм русского мышления и идея «несения духовного креста» [Murdoch 2001: 79] нравственно противопоставляются прогрессизму западного мышления, когда движение вперед важнее духовности: Мёрдок напряженно ищет источник высшей духовности в условиях исчерпанности прежних исторических путей Запада. Это еще раз подчеркивает глубинную связь романа Мёрдок с самым философским романом Достоевского – «Братья Карамазовы» – и русской культурой в целом, а также сложную диалектику стереотипного и новаторского, разрушающего привычные представления о русском и русскости.
Другой вопрос, который актуализируют авторы обеих монографий, касается связи национального и инонационального мифов, а также их исторической изменяемости. Например, Л.Ф. Хабибуллина и С.Б. Королева, используя разный историко-литературный материал, приходят к противоположным выводам об отношении англичан к русской революции. «Начиная с 1917 г. и до конца 1930-х революция видится как закономерное восстание “праведного” народа против неправедного правительства» [Королева 2014: 271]. Во второй половине ХХ в. в английском мифе о России Октябрьская революция выполняет функцию «национальной катастрофы», которой предшествует «золотой век» – дореволюционная Россия [Хабибуллина 2010: 191]. Нетрудно заметить, что инонациональный миф здесь полностью совпадает с национальным русским (советским) мифом на разных исторических этапах.
Таким образом, ценность и актуальность монографий Л.Ф. Хабибуллиной и С.Б. Королевой обусловлены не только охватом большого объема анализируемого материала, посвященного восприятию России и русских в британской (английской) литературе и культуре, но и постанов- кой методологических проблем современной имагологии. К ним относятся соотношение национального и инонационального, специфика культурного мифа и художественного образа, механизмы их исторического изменения и сохранения стереотипов. Рассматриваемые книги уже вызвали и еще вызовут широкий резонанс в читательской среде, включающей не только филологов, специалистов по британской (в частности английской) литературе, но и других ученых.
Professor
Head of the Department of World Literature and Culture
Dean of the Modern Languages and Literatures Faculty
Perm State University
Список литературы Образ и миф в английской литературе о России
- Бочкарева Н.С. Экфрастический дискурс в романе М. Брэдбери «В Эрмитаж»//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 1(21). С. 140-145
- Дегтярева В.В. Образ России в немецких путевых заметках XVIII века. Саратов: «Надежда», 2001. 111 с
- Кирнозе З.И. Россия и Франция: диалог культур: Статьи разных лет. Нижний Новгород: Нижегородский гос. лингв. ун-т им. Н. А. Добролюбова, 2002. 271 с
- Королева С.Б. Миф о России в британской культуре и литературе (до 1920-х годов). Нижний Новгород: Нижегородский гос. лингв. ун-т им. Н. А. Добролюбова, 2012. 258 с
- Королева С.Б. Миф о России в британской культуре и литературе (до 1920-х годов). М.: Ди-рект-Медиа, 2014. 314 с
- Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX-XIX вв. М.: МПГУ, 1995. 152 с
- Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX-XIX вв. М.: Лит. институт им. А.М.Горького, 2003.132 с
- Орехов В.В. Миф о России во французской литературе первой половины XIX века. Симферополь: ОАО «Симферопольская городская типография», 2008. 200 с
- Поляков О.Ю. Полякова О.А. Имагология: Теоретико-методологические основы. Киров: ООО «Радуга-ПРЕСС», 2013. 162 с
- Проскурнин Б.М. Новый человек и новое время в романе Шарлоты Бронте «Джейн Эйр»//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып. 4. С. 51-62
- Феклин М.Б. The Beautiful Genius. Тургенев в Англии: первые полвека. Oxford: Perspective Publications, 2005. 240 c
- Хабибуллина Л.Ф. Миф России в современной английской литературе. Казань: Казан. ун-т, 2010. 206 с
- Beasley R. & Bullock Ph. R., ed. Russia in Britain, 1880-1940: From Melodrama to Modernism. Oxford: Oxford University Press, 2014. 309 p
- Bradbury M. To the Hermitage. London: Picador, 2001. 498 p
- Murdoch I. The Time of Angels. London:Vintage, 2001. 242 p