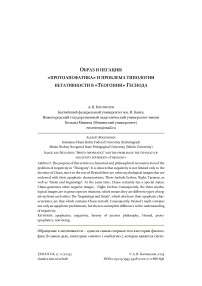Образ и негация: "протоапофатика" и проблема типологии негативности в "Теогонии" Гесиода
Автор: Богомолов А.В.
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.17, 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель настоящей статьи - историко-философская реконструкция проблемы негативности в «Теогонии». Показывается, что негативность не сводится только к учению о Хаосе, поскольку в тексте Гесиода наличествуют и иные мифологические образы, которые наделены своими апофатическими характеристиками. К их числу следует отнести Эреб, Ночь, Тартар, а также «пределы и начала». При этом Хаос, безусловно, имеет особый статус. Хаос порождает другие негативные образы - Ночь, Эреб. Следовательно, три мифологических образа находятся в родо-видовых отношениях, а значит являются отличными друг от друга видами негативности. «Начала и пределы» также имеющие свои апофатические характеристики, суть то, что содержит Хаос в себе. Следовательно, в мифе Гесиода содержится не только протоапофатическая проблематика, но имплицитно наличествует различие в понимании негативности.
Апофатика, негативность, история античной философии, гесиод, протоапофатика, небытие
Короткий адрес: https://sciup.org/147243525
IDR: 147243525 | DOI: 10.25205/1995-4328-2023-17-2-888-898
Текст научной статьи Образ и негация: "протоапофатика" и проблема типологии негативности в "Теогонии" Гесиода
мообразующей апофатического дискурса, как правило, вызывает неоднозначные интерпретации в специальной литературе. Традиционно дискуссии здесь строятся относительно онто-эпистемологического статуса ничто. И вместе с тем особый ракурс рассмотрения – генезис негативности. Это многоаспектная проблема, в которой по-прежнему наличествуют определенные пробелы. Так, в истории философии, негативность явлена в различных модусах. Вспомнить хотя бы известную работу П. Адо, в которой автор говорит об апофазисе, аферезисе и негативной теологии (Hadot 1987, 185–193). Здесь, разумеется, и известная проблема демаркации философской апофа-тики и негативной теологии (Ахутин 2005, 49), а также соотношение категорий «небытие» и «ничто».
Понимание негативности неоднородно, точно так же, как и трактовки не-бытия/ничто в истории философии. Примером здесь могут служить платоновские диалоги, в которых ничто понимается по-разному (Богомолов, Светлов, Шмонин 2022). Или, к примеру, известное утверждение Аристотеля о том, что о небытии можно говорить в трех значениях (Met. XIV). Во-первых, как об отрицании по отношению к категориям; во-вторых, о небытии как лжи; а также небытие понимается как возможность («μὴ ὂν ἰσαχῶς ταῖς κατηγορίαις λέγεται, παρὰ τοῦτο δὲ τὸ ὡς ψεῦδος λέγεται τὸ μὴ ὂν καὶ τὸ κατὰ δύναμιν»). Сказанное и обусловливает постановку вопроса об истоках различия в понимании ничто. Такие предпосылки, если мы говорим об истории западной философии, безусловно, наличествуют в античной мысли. Однако, в какой момент развития греческой философии это происходит? Да, различения мы можем найти у того же Платона, однако исток, как мы полагаем, обнаруживается все же раньше.
Разумеется, проблема различия интерпретаций негативности не может быть обнаружена ранее формирования апофатических тенденций в античной традиции. Апофатическая проблематика наличествует еще в предфило-софии – в теогонии Гесиода. В частности, негативные характеристики Хаоса очевидны и в специальной литературе это, конечно, отмечается. Однако мы полагаем, что и различие в понимании апофатического наличествует уже у Гесиода. При этом очевидно, говоря о текстах Гесиода, мы имеем дело с мифологическими образами, не с понятиями.
Настоящая статья, таким образом, обращена, во-первых, к проблеме историко-философской реконструкции понимания негативности в «Теогонии» Гесиода. Во-вторых, частным аспектом является вопрос о различии в трактовке негативности. Еще раз подчеркнем, что раскрытие и первого, и второго положения предполагает интерпретацию мифологических образов Гесиода, наделенных определенными характеристиками. В этой связи, пожалуй, более уместно использовать термин «протоапофатика», который, хоть и не столь часто, но употребляется в специальной литературе, в частности, когда речь идет о негативности у ранних греческих философов (Millsaps 2006, 31).
Итак, исходный фрагмент «Теогонии», к которому мы обращаемся:
«ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα //
Γαῖ᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ // ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου, // Τάρταρά τ᾽ ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης, // ἠδ᾽ Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, // λυσιμελής, πάντων δὲ θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων // δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.»1
В нашем случае важным представляется вопрос о том, в каком отношении находятся Хаос, Гея и Эрос. Мы полагаем, в специальной литературе можно выделить, по меньшей мере, три подхода. Согласно первому из них, Хаос является предтечей всего мира и богов (Драч 2003, 79). Очевидно, данное утверждение имеет своим основанием «πρώτιστα Χάος γένετ» (Th. 116). Такая трактовка обусловливает понимание Хаоса как «существенного условия» космогонии у Гесиода, на что, к примеру, указывает J. Bussanich (983, 215), а также в значительной степени сближает Хаос с ἀρχή. Однако Хаос – «это не порождающая причина или субстанция, подобная ἀρχαὶ милетцев (Bussanich 1983, 215)». Вторая позиция заключается в следующем: чтобы утвердить божественный характер происхождения космоса, Гесиод вводит триаду «первичных» (primordial) богов – Хаос, Гею, Эроса именно как ἀρχή богов (Bussanich 1983, 213). Такая трактовка, конечно, смещает акценты, и тезис
«πρώτιστα Χάος γένετ᾽» в известном отношении теряет онтологическую значимость, поскольку, видимо, онтологически Хаос, Гея и Эрос равны. В-третьих, А.Ф. Лосев в работе «Мифология греков и римлян», отмечал, в «Теогонии» нет ясности, в каком взаимном отношении находятся Хаос, Гея, Тартар, Эрот (Лосев 1996, 691). Разумеется, в этом случае вопрос о том, что было первичным, теряет свою значимость. Кроме того, в третьей трактовке обратим внимание, что наряду с Хаосом, Геей и Эротом А.Ф. Лосев упоминает также и Тартар. К этому моменту в рамках настоящей статьи мы вернемся ниже.
В целом, утверждение, что Хаос возникает первым и что вслед за ним, хотя и не «из» него, появляются Гея и Эрот позволяет нам все же принять ту позицию, согласно которой, Хаос – важное, а, возможно, определяющее условие космогонии. При этом согласимся и с тем, что это не архэ в том значении, в котором это понятие применяется в отношении онтологии первых греческих мыслителей. Но необходимо заметить: учение о Хаосе во многом приближено к концепции Первоначала. И при этом «Хаос» имеет негативные характеристики, что следует уже хотя бы из семантики данного понятия. Мы не станем подробно останавливаться именно на апофатических характеристиках Хаоса, этот момент, в частности, отмечался нами ранее [Богомолов, Светлов 2021, 43-46]. Однако упомянем, к примеру, работу J.S. Clay «Hesiod’s Cos-mos». Нам представляется, в ней не только представлен апофатический контекст прочтения Хаоса, но имплицитно явлено и различное понимание негативного в теогонии Гесиода. К тому же автором указанной работы «Хаос» трактуется как отрицательное (негативное), т.е. мифопоэтический образ раскрывается как абстрактное понятие.
Итак, говорится следующее: «По-видимому, это (т.е. Хаос – А.Б. ) не нагромождение неопределенной материи, как мы могли бы подумать, а скорее ее отрицание, безликая пустота» (Clay 2003, 15). Здесь, как можно видеть, Хаос уподобляется, в частности, пустоте (void). Отметим и то, что в указанной работе говорится об отсутствии у Хаоса характеристик, которые можно было бы описать. Причем обосновывается это положение автором, в том числе, исходя из этимологии самого слова. Примечательно также, J.S. Clay рассматривает негативность Хаоса во взаимосвязи с Геей: Хаос и Гея интерпретируются через понятия в рамках бинарной оппозиции «отрицательное-положительное» и делается акцент на том, что отрицательное, т.е. Хаос предшествует положительному (Гея). В указанной работе находим: «Заметен также тот факт, что отрицание (Хаос) – отсутствие качеств – предшествует положительному, Гее, и что отрицательное в некотором смысле получает свое определение от своей противоположности» (Clay 2003, 15). Но вернемся к исходному тезису J.S. Clay. И здесь, конечно, примечательно само утверждение о том, что Хаос предшествует Гее, т.е. «πρώτιστα Χάος γένετ᾽» трактуется как определяющая позиция в вопросе о соотношении трех «первичных богов». Отсюда справедлив и последующий вывод, согласно которому негативное предшествует положительному. Более того, автором отмечается, подобная ситуация повторяется: в строках 123–125, где говорится о том, что из Хаоса произошли Черная Ночь и угрюмый Эреб, из союза которых рождаются Эфир и День (Clay 2003, 16).
Мы полагаем, акцент, сделанный J.S. Clay, на повторяемости онтологического приоритета негативного имеет важное значение. Но не менее значимым представляется и то, что негативное в «Теогонии» – это не только Хаос, но и Ночь, и Эреб. Здесь, следовательно, может возникнуть вопрос о том, наделены ли Ночь и Эреб разными аспектами негативности или же их сле- дует признать со-равными порождениями Хаоса. В этой связи отметим интерпретацию Ф. Солмсена. В его работе «Hesiod and Aeschylus» сам Хаос характеризуется как «великая пустота». Однако более интересно понимание как раз Ночи и Эреба. Так, говорится, что Ночь также пуста и лишена субстанции, как и изначальная пустота (Solsmen 1949, 27). При этом именно о Ночи говорится, что это аналог «κενόν» в поздней философской терминологии (Solsmen 1949, 27). Вместе с тем нет четкой ясности, понимается ли под «изначальной пустотой» – Хаос или что-то другое. Эреб же характеризуется также как бездна – χἁσμα, как «царство больших незаполненных пространств» (Solsmen 1949, 27). Трактовка Солмсена для нас интересна в том числе и тем, что здесь наличествует, по сути, прямое указание на взаимосвязь «Νὺξ» в «Теогонии», т.е. в предфилософии, и «κενόν» в последующих учениях, иными словами, исток понимания «κενόν» в греческой философии именно у Гесиода. Кроме того, постулируемая автором корреляция обусловливает несколько важных нюансов. Во-первых, следует подчеркнуть, что именно «Νὺξ», а вовсе не Хаос признается неким аналогом позднего «κενόν». Во-вторых, если Хаос понимается как «великая пустота» («the great void»), то онтологический статус Ночи и Хаоса различен. И здесь, конечно, мы можем предположить, что, если «Νὺξ» коррелирует именно с «κενόν», то, возможно, Хаос является «предфилософским» аналогом «μή όν» или, что даже более вероятно, учитывая понимание Хаоса как «великой пустоты», «οὐκ όν».
Следовательно, из трактовки Солмсена можно увидеть онтологическое различие между Хаосом и Ночью, что, на наш взгляд, является оправданным. Теперь вернемся к вопросу о соотношении Ночи и Эреба. Во-первых, Эреб и Ночь являются парой, и именно их союз обусловливает рождение, в частности, Дня. Во-вторых, Хаос порождает Эреб и Ночь, соответственно, это можно интерпретировать как указание на наличие не просто разных ипостасей негативности, но и то, что они находятся в родо-видовых отношениях, т.е. Хаос – некое отрицание – является родом по отношению к Эребу и Ночи, которые следует в этом случае признать в качестве некоего вида негативности. Поскольку и Эреб, и Ночь суть порождения Хаоса, то следует предположить, что онтологически они равны. Однако представляется, что это все же не так. И здесь как раз следует обратиться к описанию Тартара, о необходимости чего мы писали выше.
Итак, иной ракурс соотношения мифопоэтических образов – Ночи и Эреба – раскрывается при обращении к строкам, начиная с 721, в которых Гесиод описывает Тартар. Следует заметить, полагая различия в понимании негативного в «Теогонии», Тартар также можно рассматривать как некий образ негации. К примеру, обратим внимание, Тартар – то место, в которое были отправлены побежденные Титаны. В «Теогонии» 721–722 указывается: «τόσσον ἔνερθ᾽ ὑπὸ γῆς, ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης: // τόσσον γάρ τ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς Τάρταρον ἠερόεντα.». И далее 729–731: «ἔνθα θεοὶ Τιτῆνες ὑπὸ ζόφῳ ἠερόεντι // κεκρύφαται βουλῇσι Διὸς νεφεληγερέταο // χώρῳ ἐν εὐρώεντι, πελώρης ἔσχατα γαίης». Особенно интересны 729–731 строки, в которых Тартар характеризуется не только как «место угрюмое» и «затхлое», но и место, находящееся «у края земли необъятной». Д. М. Джонсон в работе «Hesiod's Descriptions of Tartarus» отмечал: «Тартар когда-то служил безопасным местом для содержания титанов и домом для некоторых порождений Ночи, которые все еще вершат свои злые дела на земле; таким образом, он играет важную роль как в повествовании о возвышении Зевса, так и в описании Гесиодом негативных сил, с которыми мы, смертные, все еще сталкиваемся» (Johnson 1999, 8). Приведенная цитата демонстрирует, что Тартар, в отличие от той же Ночи, имеет не только негативное содержание. В частности, он трактуется как место, в которое были помещены Титаны. Это, в свою очередь и позволяет говорить о Тартаре как о некоем безопасном месте, что смещает акцент с выраженной негативной характеристики. Нам представляется, в этом важное отличие Тартара от Хаоса и Ночи.
Далее, при описании Тартара обращает на себя внимание, что, во-первых, Ночь наделяется особыми характеристиками, которые в контексте нашего исследования можно назвать «негативными». Отдельно отметим следующие из них. Так, обозначается: «Медной оградою Тартар кругом огорожен. В три ряда Ночь непроглядная шею ему окружает»2. Данный фрагмент можно интерпретировать так, что Ночь формирует некую границу, определяющую Тартар и, возможно, выступает неким сдерживающим фактором. К тому же обратим внимание, Тартар является «домом для некоторых порождений Ночи», однако не домом самой Ночи. Кроме того, в Th. 757 Ночь описывается как «несущая гибель». Также и о детях Ночи – Сне и Смерти – говорится, что это «ужасные боги». Во-вторых, об Эребе практически не упоминается при описании Тартара, и в целом данные строки «Теогонии» сообщают о Ночи едва ли не больше, чем о самом Тартаре. Эти обстоятельства, пусть и косвенно, но опять-таки указывает на особый онтологический статус Ночи. Во всяком случае, если вести речь именно о сравнении с Эребом.
Таким образом, говоря о соотношении Ночи и Эреба, следует предположить, что их негативные характеристики существенно различаются. Образ Ночи прописан куда как более детально. Здесь и указание на то, что Νὺξ определяет границу Тартара, и то, что ее дети – Сон и Смерть – также вызывают ужас. Впрочем, и здесь можно говорить о некоторых особенностях. В частности, от брака Ночи и Эреба появляется День. Как мы помним, в прочтении Дж. Клэй этот аспект интерпретировался как указание на то, что негативное предшествует положительному. Но в «Теогонии» мы находим, что «ужасные боги» Сон и Смерть являются порождениями именно Ночи, но не Ночи и Эреба. И в частности, отмечается, Ночь является первой (primal) матерью всех негативных вещей в «Теогонии» (Roisman 1983, 491). Следовательно, если согласиться, что Ночь и Эреб суть мифопоэтические образы, которые являют собой негативные элементы космологии и космогонии Гесиода, то следует предположить, что это – разные виды негативности.
Однако кроме обращения к Хаосу, Ночи, Эребу, Тартару, отдельного внимания заслуживают строки 736–740, без анализа которых нельзя составить относительно полную картину о роли и значении негативности в «Теогонии»: «ἔνθα δὲ γῆς δνοφερῆς καὶ Ταρτάρου ἠερόεντος // πόντου τ᾽ ἀτρυγέτοιο καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος // ἑξείης πάντων πηγαὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν // ἀργαλέ᾽ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ, // χάσμα μέγ᾽, οὐδέ κε πάντα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν». Прежде всего, обратим внимание на 738, где говорится о «концах и началах» – «πηγαὶ καὶ πείρατ᾽». Здесь важно само указание на наличие неких концов и начал. Интересна трактовка этого фрагмента Фрэнкелем, который отмечал: «В этих стихах воплощены глубокие онтологические размышления. В начале мы слышали, что до бытия была пустота, в которую вошло бытие; здесь говорится не о происхождении мира, а о его структуре, и Гесиод говорит, что границы и источники всех объектов в бытии лежат над пустой пропастью. На нашем языке это означает, что все сущее существует благодаря тому факту, что оно противопоставлено (пространственно, временно и логически) пустому небытию; то, чем оно является, определяется его границей с тем, чем оно не является, с пустотой» (Fränkel 1975, 105–106). Собственно, интерпретация Фрэнкеля в явном виде указывает на роль и значение негативного в теогонии, космогонии и космологии Гесиода – небытие (non-being) не только находится в тесной взаимосвязи с тем, что существует, но и в указанном смысле определяет существующее. И в этом также угадывается элемент «про-тоапофатики».
Далее, фрагмент 736–740, по сути, смещает акценты в космогонии и теогонии Гесиода. В самом деле, если ранее вопрос о возможном первоначале сводился к дискуссии вокруг тезиса «πρώτιστα Χάος γένετ’», то в Th. 738 мы впервые читаем о наличии неких начал, которые, по всей видимости, не сводятся к богам «Теогонии». В самом тексте об этих началах и концах (или еще возможен перевод второго слова – «пределы») сказано мало. Прежде всего, очевидно, нам неизвестно не только, что собою представляют начала и пределы, но и то, сколько их всего – мы лишь находим упоминание о «всех» (πάντων) началах и пределах. Но наиболее интересным представляется вопрос об их расположении. Они находятся «вне» «темной земли», вне «бесплодной пучины морской», вне «звездного неба». Здесь мы полагаем следующее. Во-первых, непосредственно не указывается, местонахождение «начал и пределов», говорится лишь о том, где они не находятся. Отсюда наше предположение, что здесь можно увидеть некий элемент апофатического («про-тоапофатического») описания. Но, во-вторых, справедливо ли, полагать, что об их расположении говорится только апофатически? В Th. 740–746 указывается: «Бездна великая. Тот, кто вошел бы туда чрез ворота, // Дна не достиг бы той бездны в течение целого года: // Ярые вихри своим дуновеньем его подхватили б, // Стали б швырять и туда и сюда. Даже боги боятся // Этого дива. Жилища ужасные сумрачной Ночи // Там расположены, густо одетые черным туманом». Можно предположить, в данном фрагменте говорится о местонахождении «начал и пределов». И если это так, то ключевым моментом здесь является указание, что это – «бездна великая», (в оригинале – «χάσμα μέγ᾽»), а последующие строки здесь лишь описание этого места. Однако тут неизбежно возникает вопрос, что собою представляет «χάσμα μέγ᾽»? Является ли это отдельным элементом в космологии Гесиода или χάσμα μέγα и Χάος суть одно, ибо некоторые сходства между ними вполне очевидны? В специальной литературе указанная часть фрагмента «Теогонии» не часто анализируется именно в оптике поставленных вопросов. Однако встречается указание, что это именно Хаос. К примеру, Д. Джонсон указывает на то, что истоки и начала космогоничны, как и пропасть (chasm), посредством которой они объясняются, а пропасть эта связана со строкой 814 и, что особенно важно, со строкой 116 (Johnson 1999, 25). Таким образом, данная трактовка указывает нам на то, что χάσμα μέγ᾽ и Χάος суть одно. Эта позиция пусть и в разных в разных вариациях встречается в специальной литературе часто. В-третьих, если согласиться с этой трактовкой, то получается, Хаос содержит в себе истоки и начала. Но тогда необходимо обозначить, что собою являют непосредственно уже «πηγαὶ καὶ πείρατ᾽». Текст «Теогонии» практически ничего не сообщает нам об этом. Однако, согласно сказанному выше, они находятся внутри Хаоса; известно, они «страшные и мрачные», причем их боятся даже боги. Мы полагаем возможным раскрыть значение «πηγαὶ καὶ πείρατ᾽» через понятие ἀρχή. В самом деле, теогония Гесиода – это, в силу понятных причин, еще не философия, но мифология, возможно, с элементами предфилософии. Однако, греческая мысль уже делает существенные шаги на пути перехода от
«мифа к логосу», и, возможно, πηγαὶ καὶ πείρατα это и есть одно из первых указаний на понимание неизбежности – преодоления мифа. Иными словами, одна из возможных трактовок «πηγαὶ καὶ πείρατ᾽» – указание на то, что это интуитивное пред-обозначение ἀρχή в мифологии (Светлов, Галанин и др. 2023, 4–5). Возможно, именно пределы и начала впоследствии находят свое выражение в натурфилософских учениях первых греческих философов, в апейроне Анаксимандра. При таком прочтении становятся понятными те немногочисленные характеристики начал и пределов, которыми мы располагаем, а также, собственно, и то, что этих характеристик практически нет. В самом деле, миф Гесиода еще только угадывает ἀρχή и ничего об этом пока не знает – отсюда и столь скудное описание. И боги их боятся, поскольку πηγαὶ καὶ πείρατα, предугадываемые как ἀρχή, суть то, что приходит на смену мифологии, а значит, самим богам. Хаос содержит в себе πηγαὶ καὶ πείρατα, следовательно, в Хаосе содержится потенция для развёртывания нового, не мифологического первоначала – ἀρχή. Иными словами, Хаос – негативное – не просто то, что предшествует другим богам, но и то, что содержит в себе потенции для разворачивания уже положительной онтологии в истории греческой мысли. А значит, опять-таки негативное предшествует позитивному.
Таким образом, в «Теогонии» Гесиода наличествует протоапофатическая проблематика, которая явлена в описании мифологических образов. Важным моментом является то, что речь идет именно о нескольких образах, отнюдь не только о Хаосе. Апофатическими характеристиками наделены и Ночь, и Эреб, и Тартар, а также «пределы и начала», которые находятся внутри Хаоса. Об Эребе текст «Теогонии» содержит мало сведений – мы лишь узнаем такие характеристики как «угрюмый», «мрачный» и вместе с тем в одной из трактовок находим, что это – «царство незаполненных пространств» (Solsmen 1949). Эреб и Ночь суть порождения Хаоса. Однако именно негативные характеристики Νὺξ в «Теогонии» прописаны в сравнении и с Хаосом, и Эребом куда как более детально и, кроме того, было обозначено, что Νὺξ является аналогом позднего «κενόν». Из описания Тартара также можно эксплицировать негативные характеристики. Однако, как мы видели, от Ночи и Хаоса Тартар отличает то, что в нем наличествует и положительные описания. Так, говорится, что некогда это был «приют безопасный», и что, поскольку именно туда были отправлены поверженные Титаны, то Тартар способствовал «возвышению» Зевса. «Начала и пределы» содержат и апофатические и позитивные описания. О них известно, что они есть, существуют, однако отнюдь не ясно, что они есть, и какую функцию они выполняют. Пределы и начала не суть боги, но являются частью именно мифологической системы Гесиода. Одним из возможных вариантов трактовки этих понятий является объяснение через понятие «архэ» в контексте концепции «от мифа к логосу». Однако особое место в системе мифологических образов занимает Хаос. И дело здесь отнюдь не только в том, что Хаос, имеющий явно выраженные апофатические характеристики, возникает первым и что, возможно, является определяющим условием космогонии Гесиода. Хаос есть то, что, во-первых, порождает иные негативные силы – Ночь, Эреб. И, во-вторых, содержит в себе πηγαὶ καὶ πείρατα.
Следовательно, в «Теогонии» наличествует не один, а несколько образов, которые наделяются апофатическими характеристиками, что само по себе предполагает «инаковость» негативного. Мы не склонны утверждать, что у Гесиода есть некая система негативных образов, во всяком случае, это утверждение предполагало бы несколько иной ракурс рассмотрения заявленной проблемы. В рамках настоящей статьи мы обозначили, что различие в понимании негативного, наличествующее в последующей греческой мысли имеет своим истоком именно миф Гесиода. И что апофатическая проблематика вовсе не сводится только к учению о Хаосе при всей онтологической значимости последнего.
Список литературы Образ и негация: "протоапофатика" и проблема типологии негативности в "Теогонии" Гесиода
- Ахутин, А.В. (2005) “Введение. Дело философии”?, «Поворотные времена». С.-Петербург: Наука, 22–87.
- Богомолов, А.В., Светлов, Р.В. (2021) «Беседа с ничто: апофатический дискурс в античной философии», Платоновские исследования 15.2, 41–73.
- Богомолов, А.В., Светлов, Р.В., Шмонин, Д.В. (2022), «Онтология и эпистемология Ничто в философии Платона: истоки и природа платоновской апофатики», ΣΧΟΛΗ (Schole) 16. 2, 763–772.
- Драч, Г.В. (2003) Рождение античной философии и начало антропологической проблематики. Москва: Гардарики.
- Лосев, А.Ф. (1996) Мифология греков и римлян. Москва: Мысль.
- Светлов Р.В., Галанин Р.Б, Никулин М.С. Приходько М.А. (2023) Истоки рациональной теологии. С.-Петербург: РХГА.
- Bussanich, J. A (1983) “Theoretical Interpretation of Hesiod's Chaos. Classical Philology,” 78.3, 212–219.
- Clay, J.S. (2003) Hesiod’s Cosmos. New York: Cambridge University Press.
- Fränkel, H. (1975) Early Greek Poetry and Philosophy: A History of Greek Epic, Lyrica, and Prose to the Middle of the Fifth Century. Oxford.
- Johnson, D.M. (1999) “Hesiod's Descriptions of Tartarus ("Theogony" 721–819),” Phoenix 53, 8–28.
- Hadot, P. (1987) “Apophatisme et théologie negative,” Exercices spirituels et philosophie antique. Paris. Études augustiniennes, 185–193.
- Millsaps, K.T. (2006) The Development of Apophatic Theology from the Pre-Socratics to the Early Christian Fathers. East Tennessee State University.
- Most, G. W., ed. (2006) Hesiod: Theogony. Works and Days. Testimonia. Harvard University Press.
- Roisman, H. (1983) “Hesiod's ῎Ατη,” Hermes 111, 491–496.
- Solmsen, F. (1949) Hesiod and Aeschylus. Ithaca, New York.