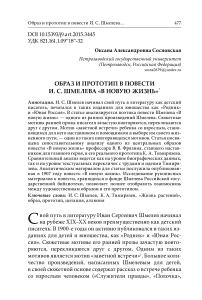Образ и прототип в повести И. С. Шмелева «В новую жизнь»
Автор: Сосновская Оксана Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
И. С. Шмелев начинал свой путь в литературу как детский писатель, печатался в таких изданиях для юношества как «Родник» и «Юная Россия». В статье анализируется поэтика повести Шмелева «В новую жизнь» - одного из ранних произведений Шмелева. Сюжетные мотивы ранней прозы писателя зачастую повторяются, перекликаются друг с другом. Мотив «заветной встречи» ребенка со взрослым, становящимся для него наставником и помощником в выборе им своего жизненного пути, - один из таких повторяющихся мотивов. Статья посвящена сопоставительному анализу одного из центральных образов повести «В новую жизнь» профессора В. В. Фрязина, ставшего наставником для главного героя, и его реального прототипа К. А. Тимирязева. Сравнительный анализ ведется как на уровне биографических данных, так и на уровне текстуальных перекличек с трудами и идеями Тимирязева. Аналитическим материалом для статьи послужила опубликованная в 1907 году повесть «В новую жизнь». Исследование рукописных материалов к повести, хранящихся в фонде Шмелева Российской государственной библиотеки, позволяет полнее отобразить взаимосвязь между художественным образом и его прототипом.
И. с. шмелев, к. а. тимирязев, "жизнь растений", образ, прототип, цитация, аллюзия
Короткий адрес: https://sciup.org/14748943
IDR: 14748943 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3445
Текст научной статьи Образ и прототип в повести И. С. Шмелева «В новую жизнь»
С в ой путь в литературу Иван Сергеевич Шмелев начинал на рубеже XIX–XX веков преимущественно как детский писатель. В 1900-е годы он активно публиковался в таких изданиях для детей и юношества, как «Родник» и «Юная Россия». Сюжетные мотивы его ранней прозы зачастую повторяются, перекликаются друг с другом. Одним из таких мотивов является мотив «заветной встречи» 1 . Большое количество произведений, написанных Шмелевым для детей, в своей сюжетной основе содержат рассказ о встрече ребенка со взрослым человеком («Служители правды», «Полочка»,
«Светлая страница» и др.), сыгравшей важную роль в самоопределении героя, в формировании его мировоззрения. Пара «взрослый» — «ребенок» присутствует почти во всех детских произведениях И. С. Шмелева. Как правило, «взрослый» становится наставником для юного героя (см.: [2], [7], [8], [10], [11], [12, 16]).
В конце XIX века в русском обществе одним из таких наставников воспринимался профессор К. А. Тимирязев. Шмелев был увлечен трудами Тимирязева и, учась на юридическом факультете Московского университета, посещал лекции и занятия известного ботаника.
Вот как описывает студенческие годы Ивана Сергеевича племянница жены писателя и его биограф, Ю. А. Кутырина:
Шмелев был на юридическом факультете в Москве, но посещал редко лекции своего факультета и ограничивался главным образом сдачей требуемых экзаменов. Он работал напряженно духовно. После своих занятий в университете, он чувствовал, что он стал другим, что он должен что-либо делать: читать, думать, работать.
Во время своих занятий, Шмелев посещал лекции профессоров и других факультетов, как Ключевского, Веселовского, и особенно проф. Тимирязева, труд которого “Жизнь растений” ему особенно нравился. Интересуясь естественными науками, он главным образом занимался русской литературой [5, 244–245].
Книга выдающегося физиолога «Жизнь растений» вдохновила писателя, стала источником идей и художественных образов для многих его произведений. Закономерно, что и сам Климент Аркадьевич Тимирязев стал прототипом образа профессора Василия Васильевича Фрязина в программной повести Шмелева «В новую жизнь».
Впервые повесть была опубликована в 1907 году в «Издании редакции журналов “Юная Россия” и “Педагогический листок”» Д. И. Тихомирова. При жизни Шмелева она переиздавалась в 1918 и 1923 годах.
Сохранившиеся черновики позволяют проследить за основными этапами процесса создания повести, которая из очерка о деревенской жизни вырастает в повесть-«одиссею» деревенского мальчишки [11, 37], вынужденного бросить горячо любимую им деревню и работать за гроши в чуждом ему городе. Работа над повестью продолжалась довольно длительный период. Первая редакция, жанр которой автор определил как «очерк», появилась еще в 1899 году. Следующий этап работы происходил с октября 1906 по февраль 1907 года, о чем свидетельствуют пометы на листах 1 и 69 ру-кописи2. В соответствии с новой художественной задачей, предполагающей сюжетные, тематические и образные изменения, свое внимание Шмелев концентрирует на главном герое — Сене, который из второстепенного персонажа очерка становится главным действующим лицом повести. В системе персонажей появляется новый образ — профессор Фря-зин, ставший для главного героя наставником, который помогает ему из забитого мальчишки превратиться в знающего цель своей жизни человека.
Указанием на взаимосвязь образа профессора Василия Васильевича Фрязина и Климента Аркадьевича Тимирязева служат текстуальные и биографические данные.
Уже при первом знакомстве читателя с образом обнаруживается его близость к реальному прототипу. Окончательная редакция дает нам следующее описание деятельности профессора:
Василiй Васильевичъ Фрязинъ, профессоръ ботаники, былъ знатокомъ физиологiи растенiй. Онъ посвятилъ себя изученiю условiй жизни растительнаго царства: какъ и чѣмъ питается растенiе, растетъ, размножается, какое влiянiе оказы-ваетъ на растенiе свѣтъ, теплота, тотъ или другой составъ почвы. Его изслѣдованiя въ этой области были поразительны. И, что самое важное, онъ не довольствовался лишь накопленiемъ и лабораторнымъ изученiемъ добытыхъ результатовъ: силою своего могучаго таланта, онъ умѣлъ ознакомить съ ними самые широкiе круги общества, примѣнялъ ихъ на практикѣ. Поднять продуктивность земли, дать громадной массѣ народа средства воспринять результаты многихъ лѣтъ кабинетной работы, заставить вѣрить въ науку — было его завѣтной мечтой. <…> онъ служилъ важнѣйшему вопросу человѣчества — вопросу питанiя. Голодъ, этотъ страшный бичъ, губящiй сотни тысячъ людей, принижающiй ихъ, — былъ однимъ изъ ужас-нѣйшихъ золъ, съ которыми призвана бороться наука.
И эта наука имѣла въ Василiи Васильевичѣ одного изъ славныхъ своихъ представителей3.
В коротком отрывке, содержащем описание образа профессора, отражены как мировоззренческие ценности Тимирязева, так и основные направления его научной деятельности.
Несмотря на отсутствие в Окончательной редакции повести пространной портретной характеристики профессора, Шмелев посредством нескольких устойчивых эпитетов («стройная, худощавая фигура» ( 1907 , 101), «голова съ краси-вымъ лбомъ» ( 1907 , 122), «вдумчивый взглядъ» ( 1907 , 99)) емко и выразительно описывает важные, по его мнению, стороны художественного образа. Уже в этих эпитетах узнаются черты внешности К. А. Тимирязева. Более детальное изображение внешности персонажа, имеющееся в первом слое правки чернового автографа, еще более роднит персонаж с его прототипом:
Это былъ челов<ѣкъ> лѣтъ 454, высок<аго> роста, сухо-щавый5. Маленькая остренькая бородка6 и прищур<енные> глаза придавали его лицу серьозность и озабоченность… ( ЧА , 45 об.)
Внешнее сходство образа и прототипа подтверждает художественное описание К. А. Тимирязева, встречающееся у современника Шмелева В. Г. Короленко, который в 1874– 1876 годах проходил курс в Петровской академии и являлся в том числе студентом Тимирязева. Короленко описывал Климента Аркадьевича дважды. В своих воспоминаниях «История моего современника» он оставил нам следующую литературную зарисовку Тимирязева-преподавателя:
Высокий, худощавый блондин с прекрасными большими глазами, еще молодой, подвижный и нервный, он был как-то по-своему изящен во всем7.
Климент Аркадьевич узнается у Короленко и в образе профессора Изборского (рассказ «С двух сторон»):
Профессор Изборский был очень худощав, с тонким, выразительным лицом и прекрасными, большими серыми глазами. Они постоянно лучились каким-то особенным, подвижным, перебегающим блеском. И в них рядом с мыслью светилась привлекательная, почти детская наивность (3, 79).
И сам Тимирязев узнал себя в прототипе, отметив в шутливой надписи на книге «Жизнь растений», которую подарил своему ученику: «Дорогому, глубокоуважаемому Владимиру Галактионовичу Короленко от сердечно признательного “Изборского”» (4, 688).
Более пространными и репрезентативными являются авторские характеристики вербального проявления героя:
Всегда спокойный, скупой на слова, — этот человек преобразился. Его близорукие глаза блестели, всегда ровный голос дрожал, приобрел силу и звучность ( 1907 , 104).
Шмелев, описывая речь профессора, указывает на некий «переломный момент», после которого происходит изменение голоса героя: «спокойный» и «сухой» голос становится «звучным» и «резким». Подобное вербальное поведение сближает художественный образ с его прототипом.
-
В. Г. Короленко также упоминает о подобной перемене в голосе К. А. Тимирязева во время чтения им лекций:
Говорил он сначала неважно, порой тянул и заикался. Но когда воодушевлялся, что случалось особенно на лекциях по физиологии растений, то все недостатки речи исчезали, и он совершенно овладевал аудиторией (4, 467).
Изменение голоса профессора происходит в повести во время лекции в Историческом музее. Среди вариантов названия лекции в рукописи упоминаются «Земледѣліе и наука» и «Земля и наука», еще одно «Наука и хлѣбъ».
Громадный залъ, съ расположенными амфитеатромъ скамьями, былъ переполненъ. Плата была доступная, день праздничный; стояли даже въ проходахъ. Было много студен-товъ и гимназистовъ; въ заднихъ рядахъ было много слушателей изъ народа, привлеченныхъ интересной лекціей: «Наука и хлѣбъ» ( 1907 , 101).
Общеизвестен факт, что в 1876 году в большой аудитории Московского музея прикладных знаний (ныне Политехнический музей) Тимирязев прочитал десять популярных лекций об анатомии и физиологии растений, которые стали основой научно-популярного труда «Жизнь растений», вышедшего в 1878 году. В Историческом музее в Москве он также читал лекцию «Физиология растений как основа рационального земледелия» 15 марта 1897 года. Все выступления ученого пользовались огромной популярностью, аудитории были переполнены. Климента Аркадьевича готовы были слушать даже стоя.
Лекция профессора совершает окончательный перелом в душе Сени, и «страшная жажда знать и знать все», возникшая ранее в его душе, «была удовлетворена» ( 1907 , 125). Авторская помета на полях чернового автографа указывает на стремление Шмелева сделать данную сцену кульминационным центром повести: «…лекція дѣлаетъ переломъ въ Сенѣ. Она опредѣляетъ его дальнѣйшую работу, цѣль» ( ЧА , 50).
Климент Аркадьевич, будучи преподавателем, точно также «заражал» этой «жаждой знать» своих студентов, горячо любивших Тимирязева и как преподавателя, и как человека. Один из его студентов, Л. С. Цетлин, вспоминает:
У всякого, кто имел счастье учиться у Климента Аркадьевича, слушать его лекции и особенно бывать на практических занятиях, общение с ним оставляло самые светлые воспоминания на всю жизнь. Его аудитория всегда переполнена, в нее стекались слушатели разных факультетов, хотя он не блистал ораторским искусством. <…> После лекций или практических занятий у Тимирязева студенты расходились полные веры в науку и в самих себя, любви к родной стране, полные уверенности в торжество истины и справедливости (цит. по: [6, 43]).
Высказывание других его учеников дополняет и без того яркую картину:
Ваша личность была для нас примером того, как нужно жить. <…> В настоящее время Вы служите для юношества высоким образцом подражания, Вы воспитываете его своим личным примером8 .
Отношение к великому ученому как его студентов, так и других его современников созвучно отношению героев повести Шмелева к профессору Фрязину. Так, Сеня называл его «своим» профессором, который «былъ въ его глазахъ ма-гомъ и волшебникомъ» ( ЧА , 47 об.), студенты, направившие Сеню на службу к Фрязину — «чуднымъ челов^комъ» (1907,
94), Кирилл Семеныч, простой рабочий, прочитавший книгу профессора, — «геніемъ» ( ЧА, 49 об.).
В сцене приглашения на лекцию, имеющейся в первом слое правки чернового автографа, словами Кирилла Семеныча, взволнованного и восхищенного только что прочитанной книгой профессора, кратко излагаются основные принципы научной деятельности Тимирязева:
Какъ твоего професс<ора> звать — Фрязинъ? Ну вотъ… — Ты знаешь кто онъ такой?.. нѣтъ?.. Ну, я тебѣ скажу… Геній онъ!.. понимаешь геній!..
Сеня удивл<енно> см<отрѣлъ> на Кир<илла> Сем<е-ныча>…
— Онъ весь міръ спасетъ!.. Вѣрно!.. Вотъ его книжку ку-пилъ!.. 40 коп. стоитъ… Что за голова!.. Духъ захватываетъ…9 Скоро, говор<итъ>, изъ одного зерна сто можно буд<етъ> получить… Господи!.. какъ написалъ… Чудеса!.. И не буд<етъ> говор<итъ> тогда человѣкъ лить потъ на свою ниву и получать терніи и волчцы, и не буд<етъ> земля-матушка давать тощій колосъ!.. И нужно говор<итъ> для этого знанія, и просвѣщеніе. И наука уже скоро все разрѣшитъ, но… Сеня слушалъ и глаза его горѣли отъ сознанія, что это говор<илъ> его <выделено Шмелевым. — О. С .> профессоръ, Вас<илій> Вас<ильевичъ>, котор<аго> онъ видитъ кажд<ый> день.
— Но… только — прод<олжалъ> Кир<иллъ> Сем<е-нычъ> — для этого нужно… какъ это онъ сказалъ то… какъ? это… Кир<иллъ> Сем<енычъ> раскрылъ книгу, поискалъ и прочелъ… свѣтъ знанія… ( ЧА , 49 об.)
Значительная часть лекции профессора посвящена роли солнца в жизни человечества. Образ солнца в повести несет ярко выраженный аллюзивный смысл. Аллюзии и даже почти прямые цитации из «настольной книги» [4, 409] только что окончившего университет И. С. Шмелева — «Жизнь растений» К. А. Тимирязева — несут схожую смысловую нагрузку. Главного героя, Сеню, с детства учил бескорыстной любви к «родимому» солнцу и земле дед Савелий. Встреча с профессором Фрязиным меняет отношение главного героя к солнцу, представляя его великим источником силы, лучи которого «падаютъ на землю и не пропадаютъ» ( ЧА , 50 об.).
Сложнейший процесс фотосинтеза описан в «Жизни растений» следующим образом:
Когда-то, где-то на землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на внутреннюю работу10.
Солнце из простого «источника радостного приятия бытия» [1, 87] превращается в «особый» и «важный предмет». После знакомства с Фрязиным и его работой, оно в понимании героя «вошло въ связь съ диковинной комнатой и про-фессоромъ, съ банками и приборами, вошло въ связь съ Хворовкой: точно невидимыя нити протянулись изъ этой комнаты и отъ солнца къ полямъ “Хворовки”, къ тощимъ полоскамъ ржи <…> и дѣду Савелію» ( 1907 , 96–97).
И как солнце проливает свет на землю, так и профессор «пролил свет» на значение небесного светила для земли, для растений и для человека. Кирилл Семеныч говорит о профессоре: «…какъ солнце свѣтитъ» ( ЧА , 60). Таким же «светом» был и Тимирязев как для огромного количества студентов, так и в целом для науки. Академик И. П. Павлов уподоблял личность и труды известного физиолога «солнечному свету — объекту основных исследований Тимирязева» (цит. по: [3, 27]):
Климент Аркадьевич сам, как и горячо любимые им растения, всю жизнь стремился к свету, запасая в себе сокровища ума и высшей правды, и сам был источником света для многих поколений, стремившихся к свету и знанию и искавших тепла и правды в суровых условиях жизни (цит. по: [3, 53]).
Важную роль как в повести Шмелева, так и в трудах Тимирязева, играет оппозиция «свет—тьма», одним из оттенков смысла которой является антитетическое противопоставление света знаний и тьмы незнания.
— Темнота!.. — вотъ врагъ народа, причина его нищеты, голода, страданій. Какъ солнечный лучъ питаетъ растеніе, да-етъ ему жизнь, тянетъ его изъ черной земли, — такъ и народу нуженъ лучъ просвѣщенія!.. ( 1907 , 103)
Эта оппозиция позволяет автору выразить главную мысль как о возможности «новой жизни», так и о способе ее достижения более ярко.
Новый міръ открылся Сенѣ — міръ людей науки и знанія.11 И съ кажд<ымъ> днемъ этотъ міръ становился ему вѣрнѣе и милѣе; съ кажд<ымъ> днемъ онъ открывалъ въ эт<омъ> мірѣ новыя черты. <…>
Вас<илій> Вас<ильевичъ> б<ылъ> занятъ цѣлый день и отним<алъ> отъ себя часъ ночи… Онъ заботился не только о тѣхъ, что живутъ теперь, онъ работ<алъ> для будущихъ, отыскивая тайны природы, добывая средства облегчить и улучшить жизнь ( ЧА , 48).
Эмоции и чувства, связанные с людьми науки, людьми думающими, людьми, любящими книгу, представлены автором в восторженном свете. Книга — это и «духовная пища» ( ЧА , 16), и то, что дарует «свѣтъ знанія» ( ЧА , 17 об., 49 об.): «читай и постигнешь» ( ЧА , 16 об.).
Необходимость образования, «школы» Тимирязев считал одним из самых важных факторов изменения жизни простого человека к лучшему. Ту же мысль выражает и И. С. Шмелев на страницах своей повести. Срав.:
Лекция Тимирязева «Физиология растений как основа рационального земледелия», прочитанная им в Историческом Музее:
Школа, всем доступная и сильная всеобщим к ней сочувствием, — вот та «причина или часть причины», которая приносит на полях датского крестьянина урожай, о котором не смеет и помыслить наш крестья-нин 12 .
Эпизод лекции в повести
«В новую жизнь »
…задача нашей науки — дать хлѣбъ, и мы дадимъ этотъ хлѣбъ!.. Пусть же идутъ къ народу и несутъ къ нему знанiя, строятъ школы , заводятъ образцовыя хозяйства, примѣромъ покажутъ то новое, что открыла наша наука, — и, главное, — пусть вложатъ въ простыя сердца вѣру въ науку, и тогда… тогда не будутъ наши поля обжигаться солнцемъ, и пахарь не будетъ уныло глядѣть на свое пустынное поле ( 1907 , 103).
Тимирязев был одним из первых преподавателей, кто показывал на своих лекциях, в том числе публичных, разнообразные блестяще поставленные опыты. Тимирязев «не только сам тщательно готовился к лекционным опытам, но и приучал своего ассистента и лаборанта заранее продумывать каждую деталь эксперимента, чтобы исключить возможность каких-либо неудач» [9, 101]. Герой-ученый в повести И. С. Шмелева также прибегает к помощи опытов, чтобы сделать свою лекцию более интересной и доступной для слушателей.
В Окончательной редакции повести сообщается о намерении профессора показывать опыты в процессе лекции: «Внизу, на эстрадѣ, стоялъ длинный столъ съ приборами для опытовъ» ( 1907 , 101). В черновых материалах к произведению есть сцена, когда профессор вместе с Сеней готовятся к опытам накануне:
…вечеромъ, профессоръ сказалъ Сенѣ — завтра я возьму тебя, на лекцію… Ты буд<ешь> помогать мнѣ при опы-тахъ… Главное, не смущайся. На меня буд<етъ> смотрѣть много народа. — Ну, мож<емъ> повторить то, что завтра будемъ показывать публикѣ.
-
13И они проработали14 до глубокой ночи ( ЧА , 49–49 об.).
Многие явления из области физиологии Тимирязев демонстрировал при помощи сциоптикона, «т. е. усовершенствованного волшебного фонаря» 15 . Герой повести, профессор Фрязин, также пользуется упомянутым прибором: «На задней стѣнѣ помѣщался экранъ для волшебного фонаря» ( 1907 , 101).
К. А. Тимирязев, будучи энциклопедически образованным человеком, свои публичные выступления и лекции часто дополнял различными литературными аллюзиями и цитатами. Так, в лекции «Наука и земледелец» ученый, обосновывая необходимость развития и популяризации науки о растениях, цитирует произведение Дж. Свифта «Путешествие Гулливера»:
Всякий, кто сумел вырастить два колоса там, где прежде рос один, две былинки травы, где росла одна, заслужил бы благодарность всего человечества, оказал бы услугу своей стране более, чем все отродие политиканов, взятое вместе16.
В повести Шмелева слова профессора Фрязина звучат в унисон цитате, употребленной Тимирязевым:
…пусть вложатъ въ простыя сердца вѣру въ науку и тогда, и тогда не будутъ наши поля обжигаться солнцемъ, не буд<утъ> торчать на нихъ одинокія колоски ( ЧА , 51).
Создавая образ профессора Фрязина, Шмелев намеренно ориентируется на образ реального и очень популярного в те времена ботаника К. А. Тимирязева. Только что вернувшийся в литературу писатель, стремившийся к «новой жизни», верящий в нее, выражал свои художественные переживания посредством повествования «о благородных людях, стремящихся к “высокой цели”» [5, 247]. Таким «благородным» человеком, безусловно, являлся К. А. Тимирязев, вселявший во многих своих современников жажду знаний, любовь к природе, науке, растениям. Для И. С. Шмелева «“Жизнь растений” Тимирязева стала настольной книгой <…> и любовь к растениям расцвела и осветила много страниц в его творчестве» [4, 409]. Описанные «переклички» с трудами Тимирязева, узнаваемые идеи известного ученого, художественно переработанные и представленные в повествовании цитациями, аллюзиями, неразрывно сближают повесть «В новую жизнь» и «Жизнь растений» Тимирязева.
Примечания
* Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX–XX веков» (№ 34.1126).
-
1 «Заветная встреча» — название статьи И. С. Шмелева в столетнюю годовщину смерти Пушкина.
-
2 Шмелев И. С. В новую жизнь. Черновой автограф // НИОР РГБ. Ф. 387.1.13. Л. 1, 69. Далее ссылки на этот источник приводятся с использованием сокращения (ЧА) и указанием номера листа в круглых скобках.
-
3 Шмелев И. С. Въ новую жизнь. М.: Изданіе редакціи журналовъ «Юная Россія» и «Педагогическій листокъ», 1907. С. 7–8. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием года издания и страницы в круглых скобках.
-
4 Было : 50 — исправлено автором : 45
-
5 Было : а. съ маленькой уже порѣдѣвшей б . гладко [с] съ подстриженными [расчес.] на проборъ волос. — исправлено автором : высок<аго> роста
-
6 Далее было : а. въ в б . т. наз. эспаньолка
-
7 Короленко В. Г. История моего современника // Короленко В. Г. Собрание сочинений: в 5 т. Л.: Худож. лит., 1990. Т. 4. С. 467. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома и страницы в круглых скобках.
-
8 Публикация Музея К. А. Тимирязева. К. А. Тимирязев как профессор в оценке учеников // Вестник высшей школы. — 1951. № 11. С. 54.
-
9 Далее было начато : Из
-
10 Тимирязев К. А. Жизнь растений. Л.: Молодая гвардия, 1950. С. 360.
-
11 Вместо точки было : и. Далее было : Эти люди
-
12 Тимирязев К. А. Избранные сочинения: в 2 т. М.: Государственное изд-во сельскохозяйственной литературы, 1957. Т. I. С. 256.
-
13 Далее было : И
-
14 Было : занялись — исправлено автором : проработали
-
15 Тимирязев К. А. Жизнь растений. Л.: Молодая гвардия, 1950. С. 145.
-
16 Тимирязев К. А. Избранные сочинения: в 4 т. М.: Государственное изд-во сельскохозяйственной литературы, 1948. Т. II. С. 20.
Список литературы Образ и прототип в повести И. С. Шмелева «В новую жизнь»
- Дзыга Я. О. Образ солнца в творчестве И. С. Шмелева и К. Д. Бальмонта//Ученые записки Казанского университета. -2011. -Т. 153. -Кн. 2. -С. 86-96.
- Еременко Л. И. Поэтика рассказов И. С. Шмелева: учебное пособие. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. -104 с.
- Комаров В. Л. Жизнь и творчество Климента Аркадьевича Тимирязева//Тимирязев К. А. Избранные сочинения: в 2 т. -М.: Государственное изд-во сельскохозяйственной литературы, 1957. -Т. I. -С. 7-60.
- Кутырина Ю. А. Иван Сергеевич Шмелев (Биографический очерк, составленный Ю. Кутыриной)//Ив. Шмелев. Избранные рассказы. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955. С. 405-412.
- Кутырина Ю. А. Иван Сергеевич Шмелев (Краткий очерк жизни и творческий путь)//Ив. Шмелев. Солдаты. -Париж: Издание Русского научного института при Русской Академической группе в Париже, 1962. С. 238-256.
- Лишевский В. П. Ученые -популяризаторы науки. -М.: Знание, 1987. -141 с.
- Руднева Е. Г. Магия словесного разнообразия (о стилистике И. С. Шмелева)//Филологические науки. -2002. -№ 4. -С. 60-65.
- Руднева Е. Г. Поэзия и поэтика детства в творчестве И. С. Шмелева//Русская словесность. -2008. -№ 6. -С. 20-22.
- Ситанская И. Ю. Опыт педагогической деятельности К. А. Тимирязева//Образование и общество. -2009. -№ 6 (59). -С. 97-102.
- Сорокина О. Н. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. -Москва: Московский рабочий, Скифы, 1994. -400 с.
- Черников А. П. Проза И. С. Шмелева: концепция мира и человека. -Калуга: Калужский областной институт усовершенствования учителей. -1995. -344 с.
- Черников А. П. «Светлое царство Русское». Повесть И. С. Шмелева «Росстани» как художественный комментарий к изучению драмы А. Н. Островского «Гроза»//Литература в школе. -2013. -№ 9. -С. 13-16.