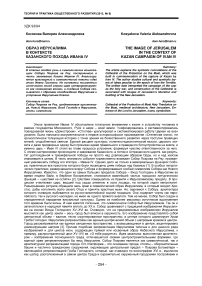Образ Иерусалима в контексте казанского похода Ивана IV
Автор: Косякова Валерия Александровна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье пойдет речь о символических коннотациях Собора Покрова на Рву, построенного в честь завоевания Казани Иваном IV. Анализируются культурный и символический пласты идей эпохи Ивана Грозного. На основании письменных источников поход самого царя интерпретируется как «священная война», а создание Собора связывается с образами освобождения Иерусалима и устроения Иерусалима Нового.
Собор покрова на рву, средневековая архитектура, новый иерусалим, вход господа в иерусалим, иконы, символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14935595
IDR: 14935595 | УДК: 93/94
Текст научной статьи Образ Иерусалима в контексте казанского похода Ивана IV
Эпоха правления Ивана IV обусловлена тотальным вниманием к жизни и устройству человека в рамках государства Московского, Руси и шире – всей земли. Унифицировалась и регламентировалась повседневная жизнь «Домостроем». «Стоглав» урегулировал и систематизировал работу Церкви на всех уровнях. Было написано монументальное и первое историософское произведение «Степенная книга», не хронологически толкующая историю с точки зрения ее божественного развития через поступки правящих князей, уподобленных святым. Бурный расцвет культуры, политико-идеологической мысли, царского этикета и даже придворных одежд был пронизан идеей правильного и праведного богоустройства на земле, и именно царь – Иван IV стоял во главе процесса устроения, формируя чувство ответственности за него. С этими настроениями происходило и завоевание Казанского, а потом и Астраханского царств, как результат долгожданной и триумфальной победы не просто над довлеющим образом Орды, но и над хаосом инаковерия в целом. В честь значимого события торжественно возведен Собор Покрова на Рву, призванный увековечить победу его ктитора – Ивана IV. Однако дело не только в мемориальных функциях Собора, практически все престолы которого были посвящены дням победы над Казанью [1]. В особых литургических практиках, разворчавшихся вокруг Собора и формировавших особый символизм Собора как Нового Иерусалима. Известно, что один из самых больших пределов Собора – Вход Господень в Иерусалим во время недели Вайи, в Вербное Воскресение, становился важнейшей частью городских литургических функций – «шествий на осляти» [2]. Шествие совершалось из Кремля к Иерусалимскому пределу. В процессии участвовал царь, ведший под уздцы ряженую в осла лошадь, на которой сидел митрополит. Разыгрывание ритуала обращало весь храм в символический образ Иерусалима, в который входил Христос, дабы исполнить волю своего Отца и принять крестные муки. Но, вернемся к Собору, архитектура которого очевидно выбивается из русско-византийской зодчей традиции. Она содержит черты как европейского, так и русского наследия, не имея ни одного прямого аналога. Тем не менее, Собор был создан в определенной парадигме визуальной культуры. Одним из наиболее массовых источников вдохновения того времени были иконы. И нам кажется логичным, что символически Собор был Иерусалимом. Так он и запечатлелся в народной памяти вплоть до XX в. Собор сравнивают с традицией изображения Иерусалима на иконах Входа Господнего XV–XVI вв. Очевидно, что на средневековых изображениях Иерусалим мыслился как центр земли – весь город был вписан в окружность. Его изображение представляло собой центричный объем – единое, тесно сгруппированное пространство, в центре которого доминирует Храм Гроба Господня. Иерусалим репрезентован как единый центрический объем с шатровым храмом в центре. Город рассматривается как единое священное пространство, с возвышающимся в центре, акцентировано доминирующим шатром [3]. Причем подобная репрезентация Иерусалима типична и для данного ряда изображений и для циклов икон, содержащих прямой или косвенный образ Небесного Иерусалима, к примеру, распространенный цикл XV–XVI вв. «О тебе радуется». Идея заказчика, выполненная архитектором – изображения полноценного града, отличавшегося своими центростремительными формами, где единый храм репрезентировал бы весь Иерусалим. Собор Покрова является как символической, так и архитектурной репрезентацией города. Его платформа – это основание города, столпы – оборонительные башни и частично гражданские сооружения, окружающие центральный предел – Покрова Богоматери – являющийся репрезентацией Гроба Господнего, который, как очевидно по иконографии XVI в., мыслился как шатер, расположенный в самом центре Града и охранительно окруженный городскими постройками и стенами. Однако продолжим анализировать контекст создания Собора Иерусалима, что вызвало необходимость, помимо литургических нужд, для постройки столь символического памятника.
Строительство Собора Покрова на Рву было связано с победой на территориях татарского Поволжья [4]. Завоевание Казани продолжалось долго и далось царю с немалыми трудностями и потерями. Но сам поход воспринимался воинами и Иваном IV как освободительный, своего рода «крестовый поход». Показательны летописные места, описывающие события похода в связи с идеями освобождения земель от бусурманской веры ради победы православия. Как в речи митрополита Макария, произнесенной во время венчания Ивана IV на царство, в которой он выражал надежду, что Бог покорит царю «вся вар-варскыя языкы», так и осенью 1549 г., когда был запланирован поход на Казань, митрополит лично прибыл в лагерь русских войск, расположенный под Владимиром, дабы убедить воевод идти сражаться «за святые церкви и за православное христианство». Высказывалась идея о священной необходимости победы [5]. Царь и его поступки неоднократно связываются с библейскими событиями и героями [6]. В официальной летописи и в источниках, вышедших из церковной среды, неоднократно выражалась мысль, что погибшие в этой войне пали за православие и подобны мученикам первых веков христианства. За их подвиг веры на том свете Бог им дарует «бесконечную радость и веселие, еже у Господа своего быти и со ангелы предстояти» [7]. Знаменателен поступок царя, следовавшего долгу православного правителя – быть первым защитником своих войск «пастырь добрый, еже душю свою полагает за овця», чтобы «ово-бодити род христианский навеки от бесерменства». Составитель же Cтепенной книги прямо сравнивал царя с библейским Моиссеем [8]. В источниках фигура Ивана IV всегда связывается с надеждой на то, что русский государь освободит живущих по всему миру православных от власти инославных и иноверных правителей. На государя стал переноситься весь комплекс представлений, связанный со священными событиями христианской истории, в которой царь, наделенный особой святостью, воплощает и реализует Божью волю. Европейские крестовые походы были продиктованы целью освобождения Священной земли от мусульманского порабощения. Церковь же воинствующая во главе с Иваном IV тоже освобождала порабощенные мусульманами земли, что на символическом уровне знаменовало освобождение христианской земли от инаковерия. Возведение Собора связано с сакральным пониманием Иваном IV и его окружением казанского похода, что увеличивает его семантическую загруженность как Иерусалима, и объясняет соотнесение строительства памятника и войны, не только как мемориального феномена, но скорее как глубоко символического, что еще более усиливалось празднованием царем своего военного триумфа в рамках церковного календаря – недели Вайи. Но, Собор знаменовал не только идеи об Иерусалиме, но и об Иерусалиме Новом, предваряющимся Страшным Судом. Царь становился фигурой совершенно сакральной и ответственной за свою паству в эсхатологическом плане, поэтому логика правильного устроения жизни на земле является логикой символичной и не просто приуготовляющей жизнь человека к Суду, но и создающей Новый Иерусалим уже на земле.
Еще раз обратимся к «шествию на осляти» в контексте сказанного. Важность шествия трудно переоценить: обряд, воспроизводящий момент Входа Господнего в Иерусалим в момент его разыгрывания, как любой литургический обряд, знаменовал собою сложную символическую систему, во-первых затрагивающую проблему времени: обряд проходит как в истерическом, линейном времени, так и во времени христианской мифологии, вневременных событий жизни Христа и Церкви. Момент события, происходящего при Иване IV, приобретает черты космического, вневременного масштаба, сакрализируя историческое время, встраивая его в парадигму христианских событий. Как любой ритуал он одновременно отображает и формирует социальную, культурную и психологическую реальность, укрепляя общество и влияя на его самоидентификацию одновременно. Во-вторых, символичен образ царя. Царь разыгрывал фигуру конюшего, ведущего под уздцы лошадь митрополита. Казалось бы, в этом обряде происходило принижении царской персоны по отношению к персоне митрополита во время празднества восседавшего на «осляти». Однако можно прочитать прямо противоположенные значения, в которых фигура царя еще больше сакрализируется и эсхотологизируются, как ведущего под уздцы свою паству к Новому Иерусалиму. В контексте бурных эсхатологических ожиданий, ежегодный праздник воспроизводил идею предопределенную Первым Пришествием и Воскресением Господнем, укрепляя веру паствы в неминуемость, как Страшного Суда, так и спасения праведников. Итак, смиренный, набожный царь, представленный в источниках, как праведный кротчайший посредник между Господом и подданными ему, заботящийся, охраняющий православную веру, разящий неправедных, вершащий «священные» войны, направляет свою паству и даже митрополита к спасению. Историческое и эсхатологическое измерение сливаются в одну реальность, актуальную для средневекового сознания, где Собор и вся Москва оборачиваются Иерусалимом, а также ассоциируются с вневременной идеей Иерусалима Нового.
Ссылки:
-
1. Силуан (Туманов, игум.). История христианских праздников. Саранск, 2008. С. 26–28.
-
2. Успенский Б.А. Обряд хождения на осляти в Вербное воскресенье и восприятие Московского Кремля как Нового Иерусалима // Международная юбилейная научная конференция, посв. 200-летию Музеев Московского Кремля. М., 2006. С. 2–5.
-
3. Bernardino A. Trattato delle Piante Immagini de Sacri Edifizi di Terra Santa. Florence, 1620. 86 p.
-
4. Баталов А.Л., Успенская Л.С. Собор покрова на Рву (Храм Василия Блаженного). М., 2002. С. 3–4.
-
5. Полное собрание русских летописей. Т. 21: Книга Степенная царского родословия. СПб., 1913. С. 256.
-
6. Там же. С. 258.
-
7. Там же.
-
8. Там же. С. 256–264.