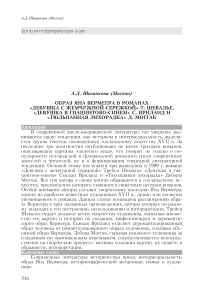Образ Яна Вермеера в романах "Девушка с жемчужной сережкой" Т. Шевалье, "Девушка в гиацинтово-синем" С. Вриланд и "Тюльпанная лихорадка" Д. Моггак
Автор: Шиганкова А.Д.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В современной англо-американской литературе, где уверенно развиваются такие тенденции, как историзм и интермедиальность, выделяется группа текстов, посвященных голландскому искусству XVII в. За последние три десятилетия опубликовано не менее тридцати романов, описывающих картины «золотого века», что говорит не только о популярности голландской и фламандской живописи среди современных зрителей и читателей, но и о формировании очередной литературной тенденции. Основой этому послужили три вышедших в 1999 г. романа: «Девушка с жемчужной сережкой» Трейси Шевалье, «Девушка в гиацинтово-синем» Сьюзан Вриланд и «Тюльпанная лихорадка» Деборы Моггак. Все три автора в своих книгах обращаются к голландскому искусству, произведения которого становятся сюжетным центром романов. Особое внимание авторы уделяют творческому наследию Яна Вермеера, одного из наиболее известных художников XVII в., прямо или косвенно упоминаемого в романах. Данная статья посвящена рассмотрению образа Вермеера в трех названных произведениях, авторы которых по-разному подходят к его построению, использованию и интерпретации. Трейси Шевалье отдает должное всему творчеству художника, описывая множество его картин и историю их создания, мифологизируя и деромантизируя образ Вермеера. Сьюзан Вриланд отделяет деромантизированный образ человека от романтизированного образа художника, создавая объемный образ Вермеера. Дебора Моггак, скрывая реального художника за созданным ею оригинальным персонажем, сосредотачивается непосредственно на творческом процессе, мотивах создания картин, их сюжете и образности, интерпретации.
Современная литература, историческая проза, интермедиальность, образ яна вермеера, историографический метароман, роман о художнике
Короткий адрес: https://sciup.org/149146748
IDR: 149146748
Текст научной статьи Образ Яна Вермеера в романах "Девушка с жемчужной сережкой" Т. Шевалье, "Девушка в гиацинтово-синем" С. Вриланд и "Тюльпанная лихорадка" Д. Моггак
В современной литературе, безусловно, разнородной и разножанровой по своему составу, тем не менее, можно выделить несколько устойчивых тенденций, развивающихся на протяжении не только нескольких десятилетий, но и нескольких веков: в их числе интермедиальность, представленная в литературе именами А. С. Байетт, М. О’Фаррелл, Дж. Барнса, и историзм, раскрывающихся в прозе таких писателей, как X. Мантелл и П. Акройд.
Несколько менее заметной, однако весьма значительной тенденцией является все более пристальное внимание писателей и критиков к локальным (региональным) текстам, которые, по замечанию В.А. Храповой, способны «нести в себе определенную картину мира, определенный взгляд на мир, укорененный в некоем локальном мифе» [Храпова, Карандашов 2018, 127]. Частным примером этой тенденции является частое обращение современных писателей к образу Голландии. Внимание авторов привлекает как голландский топос, в первую очередь связанный со столицей («Амстердам» (1998) Иэна Макьюэна, «Свет Амстердама»
-
(2012) Дэвида Парка), так и история Нидерландов («Восходящий Амстердам» (2023) Джудит В. Ричардс), архитектура («Голландский дом» (2019) Энн Пэтчетт), живопись («Натюрморт» (1985) А.С. Байетт, «Щегол» (2013) Донны Тартт).
Распространенность и актуальность данных тенденций, исчерпывающе проанализированная учеными-филологами (О.А. Ханзен-Л ё ве, Д.С. Лихачев, Л.В. Тодоров, Б.М. Проскурнин, В.А. Храпова), вкупе с наличествующим литературным материалом, позволяет выдвинуть гипотезу о неизбежности их слияния в рамках единого текста. Голландский топос отнюдь не ограничивается современным обликом и социокультурными реалиями города — интерес для исследователей и писателей представляет история Голландии, «золотой век» которой приходится на семнадцатое столетие, а стремление литературы к интермедиальности не позволяет писателям обходить вниманием голландскую и фламандскую живопись XVII в., занимающую особое место в истории мирового искусства.
Данная гипотеза находит свое подтверждение в художественной практике современных англо-американских писателей: только за последние три десятилетия было опубликовано не менее тридцати романов, посвященных нидерландским художникам XVII в. и их произведениям. В качестве примеров могут быть названы романы «Урок анатомии» Нины Сигал (Nina Siegal; «The Anatomy Lesson», 2014), «Ее собственный свет» Керри Каллаган (Carrie Callaghan; «A Light of Her Own», 2018), «Утерянные дневники Франса Хальса» Майкла Кернана (Michael Kernan; «The Lost Diaries of Frans Hals», 1994), «Натюрморт» Доди Бишоп (Dodie Bishop; «Still Life», 2021) и многие другие. Голландский исследователь Марко де Ваард видит в этом «замечательную тенденцию в англоязычной популярной художественной литературе, которая получила распространение в конце 1990-х гг. благодаря романам Трейси Шевалье, Деборы Моггак, Сьюзан Вриланд и других» [de Waard 2012, 18].
Трейси Шевалье (Tracy Chevalier, 1962) — английская писательница американского происхождения, часто обращающаяся к историческому жанру (романы «Дева в голубом» («The Virgin Blue», 1997), «Падшие ангелы» («Falling Angels», 2001)) и взаимодействию литературы с другими видами искусств («Дама и единорог» («The Lady and the Unicorn», 2003)). Мировую известность ей принес роман «Девушка с жемчужной сережкой» («Girl With a Pearl Earring», 1999), сюжет которого разворачивается в Делфте второй половины XVII в. Текст, написанный от лица молодой девушки Греты, повествует о нескольких годах ее службы в семье художника Яна Вермеера. Глазами служанки читатель видит не только бытовые реалии художника, но и наблюдает за его творческим процессом, принимая в нем непосредственное участие.
Дебора Моггак (Deborah Moggach, 1948) — английская писательница, автор 20 романов и ряда киносценариев. При внушительной библиографии Моггак в своих произведениях практически не обращается к историческому жанру. Местом действия ее романов часто становится не только Англия, но и более экзотические места: Индия, Китай, африканские страны, — однако проблемы, затрагиваемые писательницей, с одной стороны, вневременные и общечеловеческие, с другой стороны, часто привязаны к условиям современности: семейные отношения (с учетом современных социальных норм), проблемы мультикультурализма, гендерный вопрос и т.д. «Тюльпанная лихорадка» («Tulip Fever», 1999) — первый ее исторический роман, действие которого разворачивается в Амстердаме периода 1636—1637 гг., когда город и всю страну охватила «тюльпаномания» — всплеск интереса к тюльпанам и беспрецедентной торговли их луковицами. Автор подчеркивает, что история в ее романе — скорее аллегорический фон, нежели попытка реалистичного воспроизведения эпохи, а сердцем романа является любовная история Софии Сандворт и молодого перспективного художника Яна ван Лоо.
Сьюзан Вриланд (Susan Joyce Vreeland, 1946—2017) — американская писательница, журналист и педагог. Творчество Вриланд по большей части основано на литературной интерпретации произведений искусства и биографий их создателей: роман «Клара и мистер Тиффани» («Clara and Mr. Tiffany», 2011) посвящен дизайнеру и мастеру витража Кларе Дрисколл, сборник «Исследования жизни» («Life Studies», 2005) — импрессионистам и постимпрессионистам, а книга «Страсти Артемизии» («The Passion of Artemisia», 2002) — итальянской художнице эпохи барокко Артемизии Джентилески. « Девушка в гиацинтово-синем » («Girl in Hyacinth Blue», 1999) — один из наиболее известных романов С. Вриланд об искусстве. Начинающийся с представления живописного полотна и вопроса о возможном авторстве, роман, выстроенный по принципу обратной композиции, рассказывает трехвековую историю картины, дошедшей до наших дней несмотря на ее анонимность, потерю документов, кражи, природные и социально-исторические катастрофы. Изначально появившиеся несколько отдельных рассказов были организованы писательницей в единый текст романа «о людях, которые пережили решающие моменты жизни в присутствии красивой картины» [Vreeland].
Все три романа не только апеллируют к живописным полотнам XVII в., но и погружают читателя в историю голландского «золотого века». Будучи опубликованы в один год, они не могли повлиять друг на друга, однако, одновременно оказавшись в культурном поле, как отмечает Диана Уоллес, «совпали с интересом к голландскому искусству XVII века и, вероятно, способствовали ему» [Wallace]. Названные книги Д. Моггак, С. Вриланд и Т. Шевалье в этом ряду стоят особняком, поскольку, во-первых, находятся у истоков данного тренда, что неоднократно отмечено зарубежной критикой; во-вторых, все названные тексты объединены не только общей темой, но и образом конкретного голландского художника XVII в. — Яна Вермеера.
Ян Вермеер (Johannes Vermeer van Delft, 1632—1675) — один из наиболее известных голландских старых мастеров, однако в его биографии множество незаполненных лакун. Творческое наследие Вермеера также вызывает немало дискуссий ввиду споров об авторстве некоторых отдельных полотен, подделок, многочисленных краж. Все это способствует повышенному интересу к образу художника, в результате чего он все чаще становится прототипом или героем современных романов. Как отмечают польские исследователи Ксения и Веслав Олькуш, «фигура художника порождена воображением писателя и в результате пребывает на грани между реальностью и вымыслом. Цель такого подхода к построению главного героя — оживить не только аутентичную фигуру, но и само искусство. Следовательно, искусство уже не является “дале- ким”, “элитным” и запертым в музеях, а становится “настоящей жизнью”, творческим процессом, происходящим “здесь и сейчас” на глазах зрителя» [Olkusz K., Olkusz W., Rzyman 2011].
Именно такой подход прослеживается в романе «Девушка с жемчужной сережкой» Трейси Шевалье. С первой же главы в повествование вводится Йоханнес Вермеер и его жена Катарина, нанимающие молодую девушку Грету на работу в качестве служанки. Однако с точки зрения повествования они являются, в сущности, второстепенными персонажами. В качестве рассказчика писательница создает образ девушки, которая, поскольку повествование ведется от первого лица, становится для читателя глазами и ушами, «камерой-обскурой», позволяющей наблюдать за происходящим в доме художника.
Такое решение может быть обусловлено тремя факторами. Во-первых, создавая образ современницы Вермеера, автор получает возможность беллетризовать известные исторические факты и заполнить лакуны в биографии Вермеера, оставаясь в рамках исторического контекста. Во-вторых, создавая оригинального персонажа вместо повествования от лица художника или членов его семьи, автор более свободен в оценке описываемых событий, поскольку изначально предусматривает фактор свободы интерпретации героев. В-третьих, оригинальный персонаж, не имеющий литературного и исторического контекста, воспринимается читателем как более близкий, понятный, нежели оторванная от реципиента несколькими веками и определенной коннотацией историческая личность.
Вермеер в изображении Шевалье — признанный мастер, уже избранный главой гильдии святого Луки; гений, имеющий возможность рисовать то, что захочет, и так долго, как посчитает нужным. Все бытовые проблемы, связанные с финансовыми ограничениями и заботой о многочисленном семействе, лежат на плечах его жены Катарины, тещи Марии Тинс и двух служанок — сам художник не вмешивается в споры и занимается большим искусством, доводя свои полотна до идеала. В тексте это выражается не столько через образ самого Вермеера, сколько через отношение к нему других героев: жена не смеет переступать через порог студии без его разрешения («Принеси мне шкатулку, — тихо сказала она. В ее словах был металл, которого я раньше никогда не слышала: запрет входить в мастерскую был для нее невыносимо унизителен» [Шевалье 2021, 203]), а теща готова обманывать собственную дочь, лишь бы художник мог творить («Ты помогаешь ему писать быстрее, — тихо сказала она, — так что продолжай работать. Но ни слова моей дочери или Таннеке» [Шевалье 2021, 154]). Как отмечает Я.С. Линкова, «запрет входить в мастерскую является некоей символической чертой, разделяющей искусство и жизнь. Дом и семья олицетворяют реальность. Они “поставляют” художнику материал» [Линкова 2010, 186—187], в первую очередь, физического толка — предметы одежды, украшения, мотивы, — но сами не являются частью мира большого искусства: художник готов изображать чужих дочерей и жен, друзей, служанок, но только не собственную семью.
Тем очевидней выделяется на фоне семьи Грета, пользующаяся особыми привилегиями в доме и представляющая оригинальную интерпретацию образа художника. Во-первых, стоит отметить, что фамилия
Вермееров непосредственно употребляется в тексте лишь несколько раз: в начале романа, когда отец сообщает Грете, к кому на службу она поступает: «Это был художник — Вермеер. Йоханнес Вермер с женой. Ты будешь убирать его мастерскую» [Шевалье 2021, 14]); на рынке — месте городских сплетен, где уже обсуждается это событие, в беседах Греты с семьей и в финале романа, где сообщается о смерти художника. При этом в большинстве случаев «Вермееры» упоминаются во множественном числе как семья. Сам художник Йоханнес Вермеер обособленно назван лишь в двух эпизодах: при поступлении Греты к нему на службу и при известии о его смерти: « — Подумать только: умереть, оставив вдове одиннадцать детей и кучу долгов! Я дернулась и порезала ладонь. Но боли не почувствовала. — О ком вы говорите? — спросила я, и женщина ответила: — Умер художник Вермеер» [Шевалье 2021, 304]; причем в обоих случаях фамилию называют другие персонажи. На протяжении всего романа Грета не использует в отношении художника никаких наименований, ограничиваясь личными местоимениями (он, его, ему и т.д.) и словом «хозяин»: «Я стояла спиной к двери, но вдруг почувствовала, что хозяин появился в дверях. Я не знала, повернуться к нему лицом или ждать, пока он сам со мной не заговорит» [Шевалье 2021, 82]; «Я посмотрела на хозяина — на этот раз он смотрел на меня [Шевалье 2021, 248]. Таким образом даже на уровне лексики Шевалье подчеркивает доминирование художника над другими героями повествования, имеющими не только имена, но и гендерные, возрастные, социальные характеристики: сестра Агнесса и брат Франц, служанка Таннеке, теща хозяина Мария Тинс и его жена Катарина, мясники Питер и Питер-младший. Образ получается мифологизированным, что, в сущности, совпадает с читательским восприятием голландского художника, однако позволяет посредством рассказа служанки «приблизиться» к гению и наблюдать за ним.
Во-вторых, Грета, поступившая на работу по необходимости и требованию родителей, не отдает предпочтения никому из представителей семейства за исключением художника, что выражается не только через лексику, но и через поступки и отношение к служебным обязанностям: «Я находила избавление от всех них, когда убиралась в мастерской» [Шевалье 2021, 77]. Доступ на территорию художника девушка воспринимает как пропуск в мир искусства, который недоступен простым людям. Даже тяжелую работу по подготовке пигментов в ночное время она воспринимает как подарок, возвышающий ее если не до уровня художника, то хотя бы до подмастерья, то есть на ступень выше обывателя. Символично, что это возвышение происходит и буквально: служанку переселяют из подвала на чердак. Даже просьбу о физическом участии — стать моделью для картины и проколоть ухо — не входящую в ее обязанности, девушка воспринимает как привилегию и долг, поскольку просит ее об этом лично художник. Такое беспрекословное подчинение иллюстрирует тезис о том, что власть искусства над человеком безгранична.
Однако роман не ограничивается простым восхищением художественным мастерством Вермеера: Шевалье снижает пафос, показывая процесс работы над некоторыми полотнами, в частности «Женщина с жемчужным ожерельем» (1663—1665), «Концерт» (1663—1666), «Дама, пишущая письмо» (1665) и «Девушка с жемчужной сережкой» (1665).
Писательница, заметив сходство некоторых картин, в частности использования Вермеером схожих интерьеров, желтой накидки, жемчужного ожерелья и серег, создает цельную историю не только картин, но и вещей. Снижение пафоса происходит не только за счет детализации объектов, изображенных на холсте, и деромантизации процесса создания картины для читателя, привыкшего воспринимать полотно как цельный арт-объект, но и за счет участия в процессе помимо художника других лиц и предметов, например, служанки, поправившей складки ткани для большей гармонии, или камеры-обскуры, используемой художником для анализа художественного пространства. Кроме того, в тексте описываются и мотивы создания некоторых полотен: на одной из картин художник изображает дочь булочника, чтобы расплатиться за долги; картины «Женщина с жемчужным ожерельем» и «Дама, пишущая письмо» изображают некрасивую жену патрона Вермеера Ван Рейвена, который помимо «семейных портретов» заказал художнику также картину «Бокал вина» (1660), на которой изображен сам вместе с совращенной позднее служанкой, и «Девушку с жемчужной сережкой».
Таким образом, в романе Трейси Шевалье «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеер изображается как большой художник, балансирующий между миром искусства и бытовой реальностью: признанный мастер живописи вынужден время от времени подчиняться бытовым реалиям и писать картины на заказ из корыстных целей, что, однако, не всегда происходит по его инициативе. Появляясь в повествовании реже других героев, он производит впечатление недосягаемого мастера, стоящего по причине одаренности выше простого человека, однако Трейси Шевалье деромантизирует процесс создания картин, тем самым снижая пафос восприятия художника. Фигура Яна Вермеера деромантизируется в глазах читателя, который наблюдает не только за творческим процессом, но и за бытовой жизнью мастера. Таким образом, Шевалье создает вариацию романа о художнике, вписывая свой роман в обширную литературную традицию.
По мнению Сьюзан Вриланд, «художественная литература начинается там, где заканчивается история» [Rowlands 2002]. В романе «Девушка в гиацинтово-синем» Вермеер также является одним из действующих лиц, однако основное повествование сосредоточено вокруг картины, автором которой мог быть делфтский художник. В отличие от Трейси Шевалье Вриланд не обращается к реально существующей картине Вермеера, а придумывает собственную, вдохновляясь всем художественным наследием мастера: «Вермеер написал всего тридцать пять или тридцать шесть полотен. Могло быть еще одно, — рассуждала я, — пережившее разрушительное воздействие времени. Я создала в уме еще одну картину, включив в нее элементы, которые он часто использовал, и добавила объекты своего собственного воображения: стакан молока, оставленный больным ребенком, корзину для шитья, новые черные туфли молодой девушки» [Vreeland].
Сюжет книги, состоящей из 8 глав, которые ранее были отдельными рассказами, строится вокруг этой вымышленной картины, сменившей за пять столетий множество владельцев. Искусствовед Х.П. Чапман в связи с этим определяет роман как «провенанс фикшн» [Chapman 2009], поскольку история владения картиной рассказывается в обратном хро- нологическом порядке, и до последних глав остается загадкой, принадлежит ли авторство картины Йоханнесу Вермееру.
Непосредственно Вермеер появляется в тексте романа лишь в последних двух главах, причем в седьмой главе «Портрет» фокус внимания направлен на самого художника, а в последней главе «Взгляд Магдалены» — на его дочь. Вопреки ожиданию, художник представлен в романе не как загадочный представитель высокого мира искусства, а как обычный человек, ремесленник и муж, чьей обязанностью является не столько создание шедевров, сколько необходимость содержать семью: «На краски всегда находились деньги — только что было отвечать аптекарю, когда он требовал вернуть долг за лекарства для младшего братика?» [Вриланд 2006, 238]. Сам художник задумывает даже о смене профессии, чтобы выплатить долги и обеспечить семью всем необходимым: «Все, решено, сегодня же он скажет ей, что найдет другую работу. ... Да, завтра же он начнет. Всего на пару лет, может, меньше, если дела пойдут хорошо» [Вриланд 2006, 222-223]. Если Трейси Шевалье изображает его тещу Марию Тинс как заступницу, оберегающую покой художника, который должен творить, то у Вриланд она более прагматична и сурова по отношению к Вермееру: «Мария Тинс считала Яна недостойным. Но сейчас он отважно смотрел ей в лицо. Даже дома тяжелые рубиновые серьги оттягивали ей уши.
— Меня наконец-то признали в Делфте, — сказал он.
-
— Кто? Один пекарь? Один пивовар? Что, кто-то дает заказы? <.> — Меня избрали старостой гильдии святого Луки, — сказал он. — Слыхала, слыхала. Мои поздравления. За это хоть что-нибудь платят?» [Вриланд 2006, 219—220].
Вриланд, как и Трейси Шевалье, деромантизирует фигуру Вермеера, однако на творческий процесс эта деромантизация не распространяется: талант художника и сам акт творения, описанный Вриланд, вызывает восхищение со стороны его семьи, друзей, покупателей. В отличие от Вермеера Шевалье, Вермеер Вриланд долго настраивается на работу, ищет подходящие сюжеты и идеальную красоту («Человеку отведено жизни лишь на несколько картин, — сказал Ян. — Нужно правильно выбирать» [Вриланд 2006, 211]), но вдохновение посещает его внезапно, как озарение, не ощутимое другими людьми. По Вриланд, творить художника заставляют не бытовые и финансовые трудности, а творческие порывы, вызванные внезапными эстетическими открытиями: «Небесная голубизна ее глаз — как же он прежде этого не замечал? Простое лицо, а на нем нетерпение, которое она старательно сдерживала. ... Передать это лицо — честно, без гордости, перешагнув через знакомые приемы, — в этом и была задача, в этом он видел свой долг» [Вриланд 2006, 230].
Таким образом, Вриланд не идет по пути однозначной деромантизации героя, а представляет фигуру Вермеера как многогранную: как человека, семьянина, большого художника. Раскрывая бытовые сложности его жизни, автор снижает пафос восприятия Вермеера, делает его более близким читателю, при этом Вриланд сохраняет уважение к таланту художника, остающегося недосягаемым для простых людей, в отличие от его картин, увидеть которые и владеть которыми может любой человек. Как считает Х.П. Чапман, романы «Девушка с жемчужной сережкой» и «Девушка в гиацинтово-синем» «в разной степени отделяют художника от картины, однако каждый из них касается страсти к искусству и настаивает на жизненно важном влиянии искусства на человека» [Chapman 2009].
Дебора Моггак в отличие от коллег по перу в романе «Тюльпанная лихорадка» практически не упоминает Вермеера: прямо его имя указывается лишь в одном из трех предваряющих весь роман эпиграфов, где приводится цитата из письма художника. Далее имя делфтского художника не называется, однако образы его произведений пронизывают текст романа.
Сама Моггак не скрывает любви к Вермееру и того, что именного его полотна стали для нее источником вдохновения. Рассказывая об истории создания романа, она пишет: «В 1998 году меня попросили выступить с докладом об экранизации книг... Когда меня спросили, какой фильм я бы действительно хотела снять, я без колебаний ответила: “Я бы погрузилась в живопись Вермеера”. Так родилась идея» [TULIP FEVER by Deborah Moggach].
Моггак выстраивает образ живописца, окружая его известными именами реальных голландских и фламандских художников XVI в.: Рембрандта ван Рейна (Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606-1669), Питера Рубенса (Pieter Paul Rubens, 1577-1640), Томаса де Кайзера (Thomas de Keyser, 15971667), Питера Класа (Pieter Claesz, ок. 1597-1661) и др., представляя ван Лоо как еще не известного, но талантливого художника. Автор последовательно формирует в читателе ощущение реального существования вымышленного художника, вплетенного в культурно-исторический контекст эпохи, однако при детальном изучении становится очевидно, что созданный образ — собирательный, апеллирующий к разным представителям нидерландского искусства XVII в.
Первый в этом ряду — художник Якоб ван Лоо (Jacob van Loo, 1614— 1670), живший и работавший в Амстердаме с 1642 по 1660 гг. При очевидной схожести имен данный художник не может быть назван прямым и единственным прототипом образа живописца в романе «Тюльпанная лихорадка». Во-первых, имя его намеренно искажено: в романном Jan van Loos в отличие от реального Jacob van Loo отличается не только часть фамилии, но и созвучное имя: полная версия голландского Jan — Johannes. Во-вторых, годы жизни реального ван Лоо в Амстердаме не соответствуют романному времени — 1636—1637 гг., что может быть отнесено к намеренному авторскому искажению в соответствии с художественным замыслом, однако, в-третьих, не совпадают и годы жизни самого художника: реальный ван Лоо прожил с 1614 по 1670 г, в то время как романный — с 1600 («Ему тридцать шесть лет, он ровесник века» [Моггак 2017, 10]) по 1662 («Из истории мы знаем, что он дожил до шестидесяти двух лет, захватив лучшие годы голландского “золотого века”, и его самые крупные работы — еще впереди» [Моггак 2017, 218]).
Вторым в ряду вероятных прототипов образа художника является Рембрандт. Несмотря на его параллельное упоминание в тексте романа, названия полотен, приписываемых кисти вымышленного ван Лоо, дублируют творческое наследие Рембрандта: «Похищение Европы» (1632), «Воскрешение Лазаря» (1630—1632), «Жертвоприношение Исаака» (1635), «Молодая женщина в кровати» (1645) и др.
Третьим, но, в сущности, главным прототипом образа художника в романе «Тюльпанная лихорадка» является Ян Вермеер. Как и реальный ван Лоо, Вермеер с исторической точки зрения не соотносится с хронотопом романа: художник жил в 1632-1675 гг., к тому же в Делфте, а не в Амстердаме. Однако в данном случае важным представляется не столько биографическая основа, сколько художественная. Исследователь М. Ку-чарский подчеркивает, что «сведения о жизни Йоханеса Вермеера очень скудны, поэтому с точки зрения библиографических подробностей фигура главного героя в книге не могла быть смоделирована по образцу великого голландского художника XVII в. Тем не менее, Моггак делает некоторые намеки, которые могут означать, что Вермеер мог быть прототипом вымышленного художника из “Тюльпанной лихорадки”» [Kucharski 2015, 143].
Несмотря на разнообразие названий художественных артефактов и обилие экфрасиса, наиболее часто в тексте упоминается картина «Любовное письмо», являющаяся фактически эстетическим центром романа. Образ женщины с письмом — повторяющийся в творчестве Вермеера: он встречается в картинах «Девушка, читающая письмо у открытого окна» (1657), «Женщина, читающая письмо» (1663—1664), «Дама, пишущая письмо» (ок. 1665), «Хозяйка и служанка» (1666—1667), «Дама, пишущая письмо, со своей служанкой» (1670—1671) и в картине «Любовное письмо» (1669—1670), одноименной с названным в романе полотном. Один из эпизодов романа отчасти описывает вермееровский шедевр: «Служанка передавала письмо хозяйке^ Мгновения, застывшие во времени, словно в густом желе. Люди еще не одно столетие будут разглядывать эти полотна и гадать, что произойдет дальше. Например, что прочитает в письме эта женщина, стоящая у окна с залитым солнцем лицом? Может, она влюблена? Отбросит ли она письмо или, наоборот, выполнит содержащиеся в нем указания?» [Моггак 2017, 29].
Стоит отметить, что, взяв в качестве отправной точки одну картину Вермеера, в словесном описании Моггак плавно переходит к другой, проводя логическую, но отнюдь не хронологическую линию в творчестве художника, а главе 12, практически полностью представляющей собой экфрасис, автор дает подзаголовок «Письмо»: «София стояла у окна и читала письмо. Солнечные зайчики играли на ее лице. Волосы были собраны со лба и откинуты назад. В мочках ушей висели маленькие жемчужины: они отражали свет и поблескивали под тяжелой прической. На Софии был черный корсаж, расшитый бархатом и серебром. Фиолетовое платье из шелка сияло в лучах солнца. На деревянной рейке за ее спиной висел широкий гобелен. В полумраке на стене угадывались смутные очертания картин. Кровать закрывал бархатный зеленый балдахин, немного сдвинутый в сторону и открывавший краешек роскошного покрывала. Всю комнату наполнял спокойный золотистый свет. Она стояла неподвижно. Одинокая фигура, застывшая между прошлым и будущим. Краски, которые только предстоит смешать; замысел, еще не воплощенный в жизнь» [Моггак 2017, 47]. В приведенном отрывке обозначается еще не начатая, но замышляемая романным художником картина, но при этом угадывается вермееровская «Девушка, читающая письмо у открытого окна». Несмотря на отдельные детальные неточности, как-то: цвет платья или серьги, фактически не видимые за прической, — очевидно точное описание света и пространства картины. Особо стоит отметить фразу «В полумраке на стене угадывались смутные очертания картин» («Paintings can be glimpsed in the shadows»). Хотя о наличии на стене за спиной девушки картины стало известно еще в 1979 году, до написания романа, широкая публика увидела изображение Купидона на полотне Вермеера только после реставрации в 2021 г. Для искусствоведов данное открытие лишь подтвердило трактовку картины Вермеера в эротическом ключе: письмо, изучаемое девушкой, однозначно, любовного содержания [Weber 1998, 299]. В итоге выстраивается внутренняя символическая цепочка: романный художник, влюбленный в замужнюю женщину, пишет ее, читающую любовное письмо, стоящую возле изображения Купидона, покровителя влюбленных, скрытого под слоем краски. Такая же судьба постигнет и романную картину: после завершения она окажется спрятанной на чердаке от посторонних глаз и будет, вероятно, найдена много позже в подтверждение запретной любовной связи героев. Не случайно глава 12 предваряется эпиграфом, источником которого стал Псалом 127, оканчивающийся в выбранном автором отрывке словами «так благословится человек, боящийся Господа» [Моггак 2017, 47]: он аллегорически предопределяет будущее развитие сюжета, а также указывает на предмет (письмо), который станет в будущем первопричиной «изгнания из рая». В то же время на картине Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна» на первом плане расположено блюдо с фруктами, среди которых различаются яблоки, а само блюдо наклонено, находится в неустойчивом состоянии, вероятно, символизируя соответствующее душевное состояние героини.
Зарубежные исследователи также склонны видеть Вермеера одним из прототипов романного художника: Л. Флетчер полагает, что «художник «Тюльпанной лихорадки» Ян ван Лоо представляет собой собирательную фигуру, объединяющую Вермеера, Николаеса Маеса и Питера де Хоха» [Fletcher], а М. Кучарский подчеркивает, что «даже беглый анализ тем показывает, что одни и те же заголовки могут быть связаны с творчеством Рембрандта, Рейсдала и Вермеера» [Kucharski 2015, 142]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что, не называя прямо имя Вермеера, Д. Моггак, в сущности, пишет роман о его картине, при этом не ограничиваясь экфрасисом, а создавая целый сюжет, расширяющий рамки восприятия мирового шедевра.
Таким образом, все три писательницы в качестве героя или прототипа для своих романов выбирают фигуру Яна Вермеера, однако используют и интерпретируют его по-разному. Трейси Шевалье отдает должное всему творчеству художника, описывая множество его картин, созданных в тяжелых бытовых условиях, но тем более заслуживающих восхищения, равно как и их автор. При этом Шевалье идет по пути деромантизации героя, приближая его к современному читателю и рецепиенту его картин. Сьюзан Вриланд, вводя образ художника лишь в двух последних главах романа, деромантизирует Вермеера-человека, вынужденного выбирать между решением бытовых проблем и творчеством, но романтизирует Вермеера-художника, способного видеть прекрасное в обыденном и создавать великие произведения искусства, пережившие его самого, дожившие до наших дней и повлиявшие на судьбы обычных людей. Дебора Моггак, скрывая реального художника за созданным ею персонажем, сосредо- точивается непосредственно на творческом процессе, мотивах создания картин, их сюжете и образности, интерпретации. Стоит еще раз отметить, что с учетом практически одновременной публикации текстов говорить о взаимовлиянии не приходится, однако во всех трех романах наблюдается деромантизация и мифологизация художника: несмотря на попытку «оживить» живописца, окружить его семьей и друзьями, описать его быт, представить исторический, социальный и культурный контекст, он остается обособленным, противопоставленным обывателям, и даже будучи формально второстепенным персонажем, фактически является центром произведения. Зачастую авторы отказываются от исторической достоверности, или, по замечанию Л. Флетчер, признают недостаточное владение историческими фактами, но, вдохновляясь полотнами, писатели создают собственный миф о художнике, что свидетельствует о переходе от классического исторического романа к историографической метапрозе.
Список литературы Образ Яна Вермеера в романах "Девушка с жемчужной сережкой" Т. Шевалье, "Девушка в гиацинтово-синем" С. Вриланд и "Тюльпанная лихорадка" Д. Моггак
- Вриланд С. Девушка в нежно-голубом. М.: АСТ, 2006. 251 с.
- Линкова Я.С. Женщина и ее роль в искусстве в романах Т. Шевалье: «Девушка с жемчужной сережкой» и «Дама с единорогом» // Тендерная проблематика в современной литературе. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 184-197.
- Моггак Д. Тюльпанная лихорадка. М.: АСТ, 2017. 224 с.
- Храпова В.А., Карандашов И.В. Региональный текст в современной социокультурной динамике // Logos et Praxis. 2018. № 4. С. 125-131.
- Шевалье Т. Девушка с жемчужной сережкой. СПб: Азбука-Аттикус, 2021. 320 с.
- Chapman H. P. Art Fiction // Art History. 2009. No 32(4). P. 785-805.
- de Waard M. Imagining Global Amsterdam: History, Culture, and Geography in a World City. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. 316 p.
- Fletcher L. His Paintings don't Tell Stories...: Historical Romance and Vermeer // Working Papers on the Web. URL: https://extra.shu.ac.uk/wpw/historicis-ing/Fletcher.htm (дата обращения: 12.12.2023).
- Kucharski M. Intertextual and Intermedial Relationships: Deborah Moggach, Zbigniew Herbert and Dutch Painting of the Seventeenth Century // Studia Litter-aria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2015. No 10(2). P. 131-151.
- Olkusz K., Olkusz W., Rzyman A. Painters and Their Works - As Featured in Popular Literature // International Journal of Arts and Sciences. 2011. No 4(1). Р. 114-123.
- Rowlands P. Susan Vreeland: Completing the Picture with Art // Publisher's Weekly. 2002. No 249(2). URL: https://www.publishersweekly.com/pw/ print/20020114/23325-completing-the-picture-with-art.html (дата обращения: 05.02.2024).
- TULIP FEVER by Deborah Moggach // Moggach. URL: https://www. deborahmoggach.com/titles/deborah-moggach/tulip-fever/9780099288855/ (дата обращения: 03.12.2023).
- Vreeland S. Retrospection: A Narrative Autobiography. URL: https://www. svreeland.com/bio.html (дата обращения: 14.01.2024).
- Wallace D. Why Tulips? A Case-Study in Historicising the Historical Novel // Working Papers on the Web. URL: https://extra.shu.ac.uk/wpw/historicising/ Wallace.htm (дата обращения: 17.12.2023).
- Weber G. J.M. Vermeer's Use of the Picture-within-a-Picture: A New Approach // Studies in the History of Art. 1998. Vol. 55. P. 294-307.