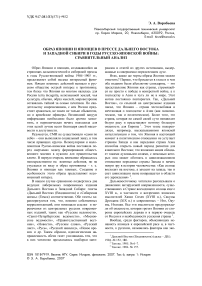Образ Японии и японцев в прессе Дальнего Востока и Западной Сибири в годы Русско-японской войны: сравнительный анализ
Автор: Воробьева Э.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736825
IDR: 14736825 | УДК: 947.081/83(571)+952
Текст краткого сообщения Образ Японии и японцев в прессе Дальнего Востока и Западной Сибири в годы Русско-японской войны: сравнительный анализ
Образ Японии и японцев , создававшийся на страницах дальневосточной и сибирской прессы в годы Русско - японской войны 1904–1905 гг ., представляет собой весьма интересный фено мен . Начало военных действий вызвало в рус ском обществе острый интерес к противнику , тем более что Япония во многом являлась для России terra incognita, непознанной землей , чья культура , обычаи , образ мыслей , мировоззрение оставались тайной за семью печатями . По сви детельству современников , с кем России пред стоит сражаться , не знали не только обыватели , но и армейские офицеры . Возникший вакуум информации необходимо было срочно запол нить , и периодическая печать подходила для этих целей лучше всего благодаря своей массо вости и до ступности .
Разумеется , СМИ не существовали « сами по себе » – они выполняли социальный заказ , в том числе правящих кругов . Непопулярная и мало понятная Русско - японская война поставила пе ред « верхами » задачу формирования общест венного мнения в нужном для правительства ключе . В первую очередь внимание обращалось непосредственно на военные действия , но не упускался из виду и образ противника – т . е . Японии и японцев как таковых . Создание и особенности этого образа представляют несо мненный интерес .
В нашем случае сравнению подверглись два ведущих либеральных повременных издания Дальнего Востока и Западной Сибири: газеты «Дальний Восток» (Владивосток) и «Сибирская жизнь» (Томск) соответственно. Обе газеты характеризуются тем, что, помимо собственных корреспонденций, они помещали ссылки и перепечатки из центральных русских повременных изданий, таких как «Русские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости», «Правительственный вестник», «Новости», «Русское слово», «Русский лист», «Русь», «Русский инвалид», «Новое время» и др. Таким образом, идеологическая направленность обеих газет усиливалась тем, что в них читателю предлагались подборки мате- риалов и статей из других источников, выдержанные в совершенно определенном духе.
Итак , какие же черты образа Японии можно отметить ? Первое , что бросается в глаза и в чем оба издания были абсолютно солидарны , – это представление Японии как страны , стремящей ся не просто к победе в конкретной войне , а к господству в Азии и чуть ли не в мире . Этот мотив постоянно повторяется . Так , « Дальний Восток », со ссылкой на центральные издания писал , что Япония – страна честолюбивая и мечтающая о господстве в Азии ( как экономи ческом , так и политическом ). Более того , это страна , которая по самой своей сути ненавидит белую расу и представляет поэтому большую опасность для Европы 1 . Этот тезис подкреп лялся , например , высказываниями японской интеллигенции о том , что Япония в настоящий момент в политическом отношении не уступает странам Запада и как передовая страна Азии способна открыть новый период развития для азиатского Востока ; что японская нация облада ет такими духовными силами , с помощью кото рых она может обогнать в цивилизационном отношении передовые страны Запада и начать новую эру в истории человечества : « Как солнце восходит на востоке , а заходит на западе , так и свет цивилизации ныне возвращается в области его зарождения » 2 .
Дальневосточному читателю рассказывали о движениях антирусской направленности , суще ствовавших в Стране восходящего солнца еще с XVIII в ., в частности о воззрениях японских мыслителей Хаяси Сихея (XVIII в .), Сакумы Дроздана (XIX в .) и современных – Ито , Оку мы , Итагаки . Все эти мыслители предупрежда ли об опасности , которая грозит Японии со сто роны европейских держав и в первую очередь от России и о необходимости усиления страны 3 .
Вообще , среди факторов , объясняющих не нависть японцев к европейской расе и , в част ности , к русским , назывались факторы как эко -
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 1: История © Э. А. Воробьева, 2007
номического порядка , так и идеологического . Среди первых отмечалось стремление Японии к господству в Азии , особенно в Китае и Корее , а в отношении России – действия последней на Дальнем Востоке ( занятие Приамурского края , Сахалина , Маньчжурии и Порт - Артура , попыт ки проникнуть в Китай и Корею , аннулирование результатов победы Японии над Китаем в войне 1894–1895 гг .). Среди факторов идеологическо го ( мировоззренческого ) порядка называлось коренное противоречие между европейской ( ку да относится и русская ) и японской ( азиатской ) культурой , которая содержала в себе ценности и идеалы , отличные от западных .
Совершенно те же мотивы можно встретить и на страницах « Сибирской Жизни ». Говори лось о панмонголизме японской расы , о ее стремлении к лидерству , мечтах о создании « империи желтолицых », а среди доказательств , в частности , приводились слова президента Верхней палаты японского парламента : « Мы – азиаты , но мы сделали нашу империю за стрельщиком и огненными буквами начертали на нашем знамени слово “ цивилизация ”. Китай , Корея , Индийские государства – все глядят те перь на Японию как на современное осуществ ление азиатской власти и национального возро ждения » 4 .
Чтобы еще больше усилить создаваемое впечатление , в обеих газетах приводились фак ты крайнего национализма и шовинизма япон цев . Это описания японских пьес , выдержки из писем японских солдат и офицеров , патриоти ческие японские стихи и т . д . Так , « Сибирская жизнь » ( со ссылкой на « Русские ведомости ») опубликовала в качестве характерного примера следующий японский стих : « Безбожные славя не , никто вас не жалеет . Вы были трусами в сражениях с китайцами , ваши казаки исчезнут , как снег перед восходящим солнцем . Идем в Порт - Артур , идем к Уралу , изгоним славян в московские леса , дабы повсюду знали силу на шего микадо » 5 .
«Дальний Восток» приводил на своих страницах подробное описание японской пьесы «Наша великая победа», герои которой – китайский шпион, русский генерал, японка, жена русского офицера – все трое оказывались японскими патриотами, разумеется, посрамившими в войне русских. Газета отмечала, что все действие пьесы сопровождалось криками «Банзай!» и здравицами в честь императора 6. О характерных чертах японских пьес писала и «Сибирская жизнь»: русские офицеры неизменно изображаются трусами и подлецами, по ходу действия японские патриоты «режут» их пачками, «кровь» льется рекой, при этом зрители восторженно орут: «Банзай!» 7.
В числе примеров японского шовинизма публиковалось и письмо японского офицера Хирозе : « Я изучил русский язык и сделался моряком единственно потому , что у меня было одно желание – раздавить Россию ! Всей целью моей жизни было сразиться с этим народом , и самым славным моментом в моей жизни был день , когда я получил приказ истребить русский флот » 8 .
Цель помещения подобных сообщений со вершенно прозрачна – доказать необходимость войны с Японией , ее чуть ли не цивилизацион ный характер . Япония во всех этих сообщениях предстает агрессором , с которым Россия просто вынуждена бороться , причем сражается она не только за себя , но и за всю христианскую циви лизацию . Данный образ , который в глазах ин теллигенции выражался как « опасность пан - монголизма », в глазах народа « снижался » до уровня : японцы – « слуги антихристовы », « чор ту молятся ».
Интересно изображение Японии просто как страны с определенным уровнем развития . И в « Дальнем Востоке », и в « Сибирской жиз ни » отмечалось , что после реформ 1868 г . раз витие Японии пошло буквально семимильными шагами , из страны « лаковых ящиков , миловид ных гейш и суровых самураев » она преврати лась в державу почти европейского уровня , с мощной современной армией , флотом , про мышленностью , всеобщим образованием , со временными формами политической жизни ( парламент ) и т . д . Но интерпретация произо шедших изменений была совершенно различна : в дальневосточной печати – со знаком « минус », в западно - сибирской – со знаком « плюс ».
В тех подборках статей, что представлял своему читателю «Дальний Восток», неизменно подчеркивалось, что усвоение японцами европейской культуры имело сугубо поверхностный характер. Развитие капитализма в Японии привело к росту пауперизма и имущественного расслоения, между тем как техника осталась на невысоком уровне, дороги построили американцы, а суда покупаются за границей. Японская торговля консервативна и ведется недобросовестно, в промышленности много банкротств и афер. Японский рабочий непригоден для европейски устроенных фабрик, он ленив и требует надзора, фабриканты же стремятся понизить качество товара, как только находят спрос. Элементарное образование в Японии распространено широко, но ассигнования на образование малы, а японские профессора не считают нужным совершенствоваться. Япония взяла от Запада самое худшее, что тот мог предложить – высокие налоги и большие военные издержки, милитаризм и шовинизм 9.
Где нельзя было поругать « материю », ругали « дух », доказывая , что , каким бы высоким не было экономическое развитие Японии , духовно она слаба и глубоко порочна , это страна , « кото рая самой природою вещей обречена занимать подчиненное место », японцы – « низшая раса », они начисто лишены индивидуальности , из - за чего в этой стране нет и не может родиться ге ний 10 . « Горе тому народу , который будет пора бощен японцами – он умрет для истинной жиз ни сердца и духа . Вера в нем заглохнет , все будет подчинено известному режиму – дело , работа займет свободное творчество и оно погибнет » 11 .
Совсем в другом ключе выдержаны статьи « Сибирской жизни ». Не довольствуясь заимст вованиями из центральной прессы , газета по мещает собственные материалы или переводы , выполненные специально для нее . Их отличает спокойный , выдержанный тон , научность , даже академичность подхода . Приводятся обширные сведения по географии и истории Японии , со стоянию экономики ( с цифрами роста ), культу ре , религии , особенностям менталитета и про чему , причем делаются попытки анализа : почему развитие страны пошло именно по это му пути , что принесли Японии проникновение в страну буддизма или , скажем , установление сегуната и т . п . Неизменно подчеркиваются те достижения , в которых Страна восходящего солнца обогнала Россию , а именно : развитая парламентская система , всеобщее начальное образование и доступность среднего и высшего , развитость и доступность прессы и вообще ак тивная гражданская жизнь японцев . Из отрица тельных черт называется возросшее имущест венное расслоение нации , обнищание масс ( особенно рабочих ), вызванное , в первую оче редь , огромными расходами на военные нужды .
Высоко оценивается духовность японцев, о которой пишется, например, в следующих выражениях: «Не лишившись ни одного корабля, не проиграв ни одной битвы, Япония войной 1894–95 гг. сократила силу Китая, создала новую Корею, расширила собственную территорию, изменила всю политическую физиономию Восточной Азии. Если это поразительно в отношении политическом, то еще более поразительно психологически, так как это свидетельствует о многостороннем развитии сил народа, не проявлявшихся им до того, никем не подоз- ревавшихся, не ожидавшихся от него, некоторых сил совершенно особого рода» 12.
Если « Дальний Восток » постоянно отмечал , что европеизация Японии носит поверхностный характер , « копни чуть глубже , а там тот же жел тоглазый дикарь - азиат », готовый при первом удобном случае « вцепиться в глотку » своему бывшему учителю европейцу , то « Сибирская жизнь », напротив , утверждала , что европеиза ция далась Японии весьма нелегко , « удивитель но , как японский дух и ум смогли выдержать столь быстрое и сильное потрясение ». Да , в первую очередь изменения коснулись промыш ленности , науки , военного дела , а другие сферы европейской культуры ( музыка , живопись , те атр , частично литература ) почти не были усвое ны , но это свидетельствует не об отсталости японцев , а только о том , что « мир мышления и чувствования » восточного человека слишком сильно отличается от « мира мышления и чувст вования » западного .
Кстати, читателю напоминали, что японская литература, например, известна с VIII в., «в то время, как в Европе бродили нестройные полчища варваров, Япония имела уже свою культу- ру, свою письменность, свою литературу»
.
Для современной японской литературы харак терно наличие большого числа переводов ев ропейских писателей , в том числе русских , из которых наибольшей популярностью пользуют ся Л . Н . Толстой , М . Ю . Лермонтов , М . Горький ( последний , между прочим , известен японцам как автор « Мещан », поскольку они нашли в этой пьесе созвучие со своими собственными про блемами ) 14 . Почти у каждого японца можно за метить в руках книгу или газету , читают все по головно , включая беднейшие слои населения 15 .
Среди черт , присущих японцам как нации , « Дальний Восток » выделял такие , как самооб ладание , подвижность , легкость приспособле ния к любым условиям и обстоятельствам , вежливость , ум , приверженность традициям , верность правителям , патриотизм , и в то же время лживость , гордость , тщеславие , нераз борчивость в средствах , коварство , презрение к смерти , жестокость , ненависть к европейцам . Описания японских обычаев в газете часто но сили сенсационный характер , читателя склоня ли к тому , что они свидетельствуют о порочно сти и развращенности японской расы .
«Сибирская жизнь», напротив, отмечала, что японцы упорны, обладают твердым сознанием своего достоинства, охотно учатся, жизнерадостны, вежливы, воздержаны, чистоплотны «до пределов возможного», ценят и понимают кра- соту, очень трудолюбивы и добросовестны. Шокирующие европейцев японские обычаи объясняются климатом страны, а вовсе не их распущенностью. В числе характерных заметок, помещаемых на страницах «Сибирской жизни», можно назвать статью профессора Трачевского из «Биржевых ведомостей», в которой последний предлагал задуматься о контрастах Японии: «макаки» дают европейцам уроки трезвости, чистоплотности и любезности, предания самураев сочетаются с гражданским чувством и свободой личности, божественная особа императора – с парламентаризмом, гейши – с верными женами и чадолюбивыми матерями и т. д. В заключение автор предлагал не ругать японцев, а признать пороки собственной цивилизации 16.
Дополнительным штрихом к образу японцев служат характеристики японской армии и флота ( количественные и качественные ). Стоит отме тить , что до войны они носили уничижитель ный характер и как в обществе , так и в русской армии к будущему противнику относились пре небрежительно (« япошки », « макаки »), считая его ни на что не годным . С началом военных действий оценки резко поменялись , в армии , а чуть позже и в печати за неприятелем признали целый ряд достоинств . Печать провинциальная здесь шла за центральной , и как в « Дальнем Востоке », так и в « Сибирской жизни » отмеча лось , что японская армия оказалась достойным противником , она хорошо вооружена , организо вана , дисциплинирована . Японцы тщательно и заранее готовят все операции , очень ответст венны и методичны , соблюдают все требования военной науки . Особенность японской страте гии – стремительность атак , отличное сосредо точение сил для удара , широкое использование резервов . У японцев великолепно организована разведка и связь во время боя , биваки тщатель но охраняются , занятие позиций производится строго по плану . Стрельба правильно организо вана ( есть специальные таблицы с зонами об стрела , высотой прицела и т . п .). Японцы иде ально приспосабливаются к местности , очень искусно устраивают засады . Японский солдат образованнее русского , он знает свою часть , своего командира , свою задачу 17 .
Вместе с тем японцы слишком подвержены шаблону , стереотипу , теряются в непредусмот ренной ситуации , их осторожность граничит с трусостью , они быстро выдыхаются , а в физи ческом отношении слабее русских .
И «Дальний Восток», и «Сибирская жизнь» часто обращались к очеркам В. И. Немировича-Данченко, который писал о японских солдатах с искренним восхищением, особенно отмечая их героизм, ни в чем не уступавший героизму рус- ских солдат: «Японцы в шлюпках, расстреливаемые пулеметами, умирали на наших глазах, но ни одна шлюпка не подняла сигнала сдачи» 18; «воодушевление таково, что люди режут себе горло и животы, а не сдаются, плен для японцев – позор, смерть – доблесть» 19; «достойный противник, и как глупы те, кто мне ставил в минус справедливость, которую я отдаю нашему врагу. Этим господам издали можно называть его макаками, япошками, давать им титулы подлых, коварных и еще не знаю какие. Но тут от командующего армии и до последнего солдата относятся к «макакам» и «япошкам» с истинным уважением. Нет чести в борьбе с какою-то азиатскою дрянью, и великая слава победить врага могучего, искусного, достойного нашей старой, боевой армии, нашего героя и мученика солдата» 20.
Однако чем дальше , тем больше в печати стали появляться сведения о зверстве японцев , об их расправах над русскими ранеными и т . д . « Дальний Восток » отзывается на эти факты в духе « что и следовало ожидать », « Сибирская жизнь » – по - иному . Характерно помещение на страницы газеты заметки о том , как еще до вой ны редакцию « Сибирской жизни » посещали трое японцев – майор японской армии Танака , секретарь японского посольства Сугамура и редактор одной из японских газет Азагина . Все трое держались с большим достоинством , под робно расспрашивали о жизни в Сибири и кон кретно в Томске , оставили впечатление « умных , милых и образованных людей ». Теперь же де ликатный Танака с грубой бранью бросается на казаков ( и был ими убит ), добродушный Азаги - на со страниц своей газеты мечет громы и мол нии на головы русских , а весельчак Сугамура обсуждает в парламенте планы убийства . « А что мы ?» – риторически вопрошает газета . « Так ожесточает народы жестокая , но пока неиз бежная необходимость – война . Так , под влияни ем ее , человек становится врагом человеку » 21 .
Итак, говоря о том образе Японии и японцев, которые создаются на страницах «Дальнего Востока» и «Сибирской жизни», можно выделить интересную особенность. Обе газеты рисуют Японию как агрессора, схватка с которым оказалась неизбежной, но во всех остальных случаях отношение к японцам «Сибирской жизни» скорее сочувственное (особенно к тем, кто не по своей воле оказался в Сибири), «Дальнего Востока» – враждебное. И это при том, что «заказ» на формирование в обществе позитивного образа Русско-японской войны (пиар, говоря современным языком) обе газеты выполняли в одном ключе и весьма тщательно («Сибирская жизнь» даже с большей последовательностью и успехом). В чем же тут дело?
Возможно , в том « военном психозе », кото рый охватил дальневосточные окраины . Кос нулся он как обывателей , так и самих властей . С началом войны в адрес японцев стали посту пать многочисленные анонимные угрозы , на пример , следующая ( стилистика оригинала со хранена ): « Просим Ваше Превосходительство ради бога прикажите куда - нибудь убрать уда лить японца Такеучи и других с Хабаровска , хоть в Сретенск или куда . Верно говорю Вам его убьют , как и многих других , хоть их охра няйте как знаете . Прикажите и вывеску его уничтожить , чтобы тут и духа их не пахло . Нам собственно его не жаль , не все ли равно десяток этих разбойников обезьян меньше будет , но очень нежелательно то , что иностранные газеты сейчас заговорят о жестокости русских , что они убивают мирных жителей японцев в своих го родах . А убьют Такеучи и прочих беспременно , рано или поздно убьют . Это решено и даже уже сговорились некоторые люди , а кто их будет за щищать и тех убьют . Верно Вам говорю » 22 .
Сами власти рассматривали японцев как потенциальных шпионов, поэтому с началом войны их стали спешно выдворять с территории Дальнего Востока в Японию, а затем, по приказанию наместника, внутрь Сибири. За обнаружение и выдачу японцев присуждалась награда, за укрывательство – следовало тюремное заключение, даже если сам «укрыватель» оказывался обманут (как в деле крестьянина из дерев- ревни Кочеги Александра Ванчейли) 23. Во Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске обывателей призывали к активному поиску японских шпионов, местные газеты охватила «шпиономания». В некоторых случаях власти призывали к прямому поголовному уничтожению японцев (например, на Камчатке, приказ уездного начальника А. П. Сильницкого № 309 от 25.05.1904). Образ японца как коварного, жестокого азиата (создаваемый, в том числе, усилиями СМИ) мог обеспечить на Дальнем Востоке соответствующую «бдительность» населения, весьма выгодную в сложившихся условиях местным властям. Возможно, психоз «сверху» и «снизу» взаимно подпитывали и усиливали друг друга (характерно современное весьма негативное отношение к китайцам в Приморье, из-за опасения, что «скоро весь наш Дальний Восток займут»).
Итак , пресса Дальнего Востока и Западной Сибири участвовала в формировании общест венного мнения по отношению к Японии в годы Русско - японской войны . Она представляла Японию как несомненного агрессора , возгла вившего борьбу за создание « империи желто лицых », но дальневосточная печать культиви ровала образ врага , западно - сибирская – проявляла сдержанное и даже сочувственное отношение к японцам « как к людям ». Возмож ное объяснение этому – разница читательских аудиторий и « военный психоз », охвативший именно дальневосточные окраины .
Материал поступил в редколлегию 07.10.2006