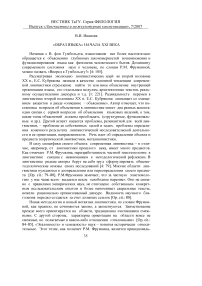«Образ языка» начала XXI века
Автор: Иванова Валентина Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120455
IDR: 146120455
Текст статьи «Образ языка» начала XXI века
«ОБРАЗ ЯЗЫКА» НАЧАЛА XXI ВЕКА
Начиная с В. фон Гумбольдта, языкознание все более настоятельно обращается к объяснению глубинных закономерностей возникновения и функционирования языка как феномена человеческого бытия. Доминанту современного состояния наук о человеке, по словам Р.М. Фрумкиной, можно назвать «Вперед к Гумбольдту!» [4: 105].
Рассматривая эволюцию лингвистических идей во второй половине ХХ в., Е.С. Кубрякова назвала в качестве основной тенденции современной лингвистики стремление найти то или иное объяснение внутренней организации языка, его отдельным модулям, архитектонике текстов, реальному осуществлению дискурса и т.д. [1: 221]. Радикальность перемен в лингвистике второй половины ХХ в. Е.С. Кубрякова связывает со смещением акцентов в диаде «описание - объяснение». Автор отмечает, что постановка вопросов об объяснении в лингвистике имеет два разных аспекта: один связан с серией вопросов об объяснении языковых явлений, о том, какие типы объяснений должны преобладать (структурные, функциональные и др.). Другой аспект касается проблемы, релевантной для всей лингвистики, – проблемы ее собственных целей и задач, проблемы определения конечного результата лингвистической исследовательской деятельности и ее ориентации, направленности. Речь идет об определении объекта и предмета теоретической лингвистики, металингвистики.
В силу специфики своего объекта современная лингвистика – в отличие, например, от лингвистики прошлого века, имеет много предметов. Как отмечает Р.М. Фрумкина, неразработанность частной эпистемологии в лингвистике связана с невниманием к методологической рефлексии. В лингвистике редкие авторы берут на себя труд сформулировать общеметодологические основы своих исследований [4: 79]. Многие области лингвистики нуждаются в доопределении или переопределении своего предмета [Op. cit.: 79–80]. Р.М.Фрумкина замечает, что за частную эпистемологию у нас чаще всего выдается некое «свободное парение». Оно не связано с правилами эмпирических наук, не отягощено собственным конкретным исследовательским опытом и более напоминает сакральные тексты, нежели рационально организованный дискурс. Видимость научного благолепия нередко создается за счет должных ссылок [Op. cit.: 80].
Новая методология и новый метаязык лингвистики, по словам Фрумкиной, как правило, не сочиняются заново, а заимствуются. Заимствование прежде всего ориентируется на области, традиционно считавшиеся смежными. С другой стороны, характерна ориентация на области вовсе не смежные, но полагаемые в каком-либо отношении «эталонными» [Op. cit.: 84–85]. «Эталонность» и «смежность» наук – понятия исторически относительные. Этот тезис, как полагает Р.М. Фрумкина, является принципиаль- ным для частной эпистемологии. Например, некоторое время структурная лингвистика была «эталоном» для литературоведения, но постепенно она теряет это качество, сужает сферу своей «эталонности». В результате взаимодействия лингвистики с философией, психологией, когитологией в лингвистике в последнее время были сконструированы новые объекты описания.
На протяжении ХХ в. сменяли друг друга разные определения языка и соответственно разные его «образы» [2: 7]. Эту эволюцию, как полагает Ю.С. Степанов, можно поставить в связь – однако не слишком жесткую – со сменой «стилей научного мышления», со сменой «парадигм». Эволюция протекала так, что каждое последующее определение не вытесняло предыдущего целиком, а включало в себя некоторые его черты. Перечисляя разные «образы языка» в ХХ в., Ю.С.Степанов называет такие, как «Язык как структура», «Язык как система», «Язык как пространство мысли и дом духа» и др. [Op. cit.: 8].
«Язык как система» - это, по существу, тот же тезис, что и «Язык как структура», но как бы с включенной в определение критикой и модификацией жестко структуралистского подхода. Под системой понимается единое целое, доминирующее над своими частями и состоящее из элементов и связывающих их отношений. Совокупность отношений между элементами системы образует ее структуру. Правомерно говорить поэтому о структуре системы. Совокупность структуры и элементов составляют систему [Op. cit.: 16].
Ядро языковой системы образуют предельные единицы языка и связывающие их отношения. Под предельными единицами понимаются аллофоны, морфы, слова (аллолексы, моносемы, концептемы), словосочетания, предложения, а в абстрактном аспекте - фонемы, морфемы, слова (лексемы), структурные схемы словосочетаний, структурные схемы предложений. Под отношениями между предельными единицами понимаются все типы парадигматических и синтагматических отношений.
К ядру языковой системы примыкают непредельные языковые единицы и связывающие их отношения: группофонемы, квазиморфы, аналитические формы слова, сложные предложения [Ibid].
При определении того, что представляет собой языковая система, необходимо вкладывать четкий смысл в термин «доминирует» («система доминирует над своими частями и элементами»). Система и структура определяют элемент как принадлежность данной системы и в этом доминируют над ним. Поэтому при описании системы логическое определение отношений действительно предшествует логическому определению элементов. Однако система и структура не предопределяют происхождение элементов как отдельных объективных явлений действительности (например, материальных звукотипов, значений слов как отражения отдельных предметов объективной действительности) и в этом смысле не доминируют над элементами. Кроме того, даже и в случае доминации в системе языка важ- ную роль играют нежестко детерминированные, вероятностные отношения – нежесткая доминация. Ее примером могут служить явления «континуума» [Op. cit.: 17].
Структура языка тяготеет к большой общности (например, одни и те же фонемные оппозиции могут наблюдаться в языках разных семей; порядок слов один и тот же в современных кельтских языках и в иврите и т.п.). Система же языка, т.е. материальная реализация структуры, всегда индивидуальна в каждом этническом языке, всегда «идиоэтнична» [Ibid].
На протяжении ХХ в. уточнялось и делалось строгим само понимание структуры. По словам Ю.С. Степанова, наиболее последовательное понимание структуры было представлено в концепции Л. Ельмслева, который полагал, что для каждого процесса можно найти соответствующую систему, на основе которой процесс может быть проанализирован и описан посредством ограниченного числа предпосылок. Процесс может быть разложен на ограниченное число элементов, которые постоянно повторяются в различных комбинациях. Затем эти элементы могут быть объединены в классы по их комбинационным возможностям и можно построить всеобщее и исчерпывающее исчисление возможных комбинаций (см. об этом [2: 16]).
Как замечает У.Эко, термин «структура» часто употребляется «как придется и в самых несхожих философских и научных концепциях» [5 : 331]. Рассматривая понятие структуры в истории мысли, Эко отмечет, что речь идет о термине, который определяет одновременно целое, части этого целого и отношения частей между собой. Части целого зависят друг от друга и каждая может быть тем, что она есть, только во взаимосвязи со всеми остальными.
Соссюровское противопоставление языка как совокупности правил, которыми руководствуется говорящий, и речи как индивидуального акта говорения, в котором эти правила им применяются ради общения с себе подобными, У. Эко отождествляет с противопоставлением кода и сообщения и считает это противопоставление оппозицией между теоретической системой (язык физически не существует, это абстракция, лингвистическая модель) и конкретным феноменом [Op. cit.: 72].
Согласно Соссюру, язык – это система, все части которой можно и должно рассматривать в их синхронной взаимосвязи. Из понимания языка как системы следует, что язык – это структура, представляющая собой совокупность отношений. Для выделения структуры из реальных отношений, установившихся между вещами, прибегают к умственным действиям. Тогда структура понимается как модель, выстроенная с помощью некоторых упрощающих операций, которые позволяют рассматривать явление с одной-единственной точки зрения. Так, фонологический код предоставляет возможность свести различные по своим физическим характеристикам звуки воедино, для того, чтобы они могли соответствовать определенному набору значений; для этого и нужно обратиться к системе фонологических отношений, игнорируя факультативные варианты произношения [Op. cit.: 80].
Структурный метод не столько обнаруживает структуру, сколько выстраивает ее, изобретает в качестве гипотезы и теоретической модели и утверждает, что все изучаемые явления должны подчиняться устанавливаемой структурной закономерности. Задача ученого заключается в том, чтобы не загонять то, с чем он сталкивается, в придуманную схему, допуская возможность ее исправления.
Найти код – это значит теоретически постулировать его. Каждый лингвист, прежде чем установить закономерности языка, изучает языковое поведение во всей его конкретности и многообразии; но он не в силах исчерпать все возможности индивидуального произношения, индивидуальной манеры говорить, индивидуальных намерений говорящего, стало быть, он должен бросить накапливать факты и заняться построением языковой системы [Op. cit.: 83].
Согласно У.Эко, понятия структуры и кода совпадают. Код – это модель, являющаяся результатом ряда условных упрощений, производимых ради того, чтобы обеспечить возможность передачи тех или иных сообщений; это структура, представленная в виде модели, выступающая как основополагающее правило при формировании ряда конкретных сообщений, которые именно благодаря этому и обретают способность быть сообщаемыми. Автор подчеркивает, что не следует ни смешивать значения с психическими процессами, ни помещать их в мир платоновских идей, ни отождествлять с конкретным узусом, несмотря на то, что именно наблюдение за практикой речи, позволяющее вывести какую-то усредненную норму говорения, и подводит к идее кода. Код устанавливается тогда, когда участник коммуникации имеет в распоряжении набор известных символов, из которых он осуществляет выбор, комбинируя их согласно известным правилам.
Эко различает репертуар знаков, денотативные коды и коннотативные лексикоды. Репертуар знаков предполагает перечень символов. Код создает из этих символов систему различий и оппозиций и закрепляет правила их сочетания. Денотативные коды легко выделяются, подчиняются строгим правилам, являются более стойкими. Лексикоды изменчивы, зависят от социальной принадлежности говорящего. Их описание всегда более или менее приблизительно. Лексикод выстраивается как система значащих оппозиций, но может не включать в себя правил сочетания, отсылая к тем, что установлены основным кодом, лексикодом которого он является.
Как подчеркивает У.Эко, при исследовании коммуникативных моделей не обойтись без использования структурных решеток для определения как формы сообщений, так и системной природы кодов. Нужда в этих структурных решетках возникает тогда, когда появляется потребность описания различных явлений при помощи одного и того же инструментария, иначе говоря, выявления гомологических структур в сообщениях, кодах, куль- турных контекстах, в которых они функционируют [Op. cit.: 331]. Задачи структурного метода как раз и сводятся к тому, чтобы выявить гомогенные структуры на разных культурных уровнях. Это задачи чисто оперативного порядка, имеющие целью генерализовать дискурс.
В начале ХХ в. Ф. де Соссюр обосновал необходимость структурирования инвентаря языкового кода; позднее Н. Хомский обратил внимание на необходимость разработки правил построения правильных предложений из единиц кода, т.е. правил реализации языкового кода. Структурирование языкового дискурса – задача современного языкознания.
Ю.С. Степанов замечает, что концепция Н.Хомского не изменила взгляда на язык, но изменила взгляд на лингвистическую теорию [2: 22].
В концепции Хомского знание родного языка представлялось как система правил, грамматика языка. Множество правильно построенных предложений рассматривалось как язык, порожденный грамматикой. Грамматика – это устройство, которое, в частности, задает бесконечное множество правильно построенных предложений и сопоставляет каждому из них одну или несколько структурных характеристик. Такое устройство и называется порождающей грамматикой в отличие от описательных грамматик, в которых определяется лишь инвентарь участвующих в структурных характеристиках элементов и их контекстных вариантов. Это устройство Н. Хомский сопоставлял с языком (langue) в соссюровской концепции (см. об этом [2: 23]).
Эксплицитная формулировка этих правил и стала объектом порождающей грамматики. Порождающая грамматика пытается построить правила, сформулированные в явном виде и полностью описывающие ту структурную информацию, которой располагает и пользуется зрелый носитель языка. Ю.С. Степанов подчеркивает, что порождающая грамматика этим своим подходом существенно изменила взгляд на теорию описания языка, на лингвистическую теорию, приблизив ее к задачам компьютерного века [Op. cit.: 25]. Лингвистическая теория стала пониматься «как исследование работы мышления человека с языком» [Ibid.]. Но, как подчеркивает Ю.С.Степанов, генеративная лингвистика не изменила коренных представлений о самом языке, он рассматривается как инструмент мышления и познания. Такое понимание языка возвращает этих лингвистов к концепции Аристотеля, которая была ярким примером «орудийной концепции языка».
В начале 1970-х гг. начал широко использоваться термин «дискурс», первоначально в значении, близком к тому, в каком в русской лингвистике бытовал термин «функциональный стиль» (речи или языка). Причина того, что при живом термине «функциональный стиль» потребовался другой термин – «дискурс», заключалась, по словам Ю.С. Степанова, в особенностях национальных лингвистических школ, а не в предмете [3: 36]. В то время как в русской традиции (особенно укрепившейся в этом отношении с трудами В.В. Виноградова и Г.О. Винокура) «функциональный стиль оз- начал прежде всего особый тип текстов – разговорных, бюрократических, газетных и т.д., но также и соответствующую каждому типу лексическую систему и свою грамматику, а в англо-саксонской не было ничего подобного, прежде всего потому, что не было стилистики как особой отрасли языкознания» [Ibid.]. Англо-саксонские лингвисты подошли к тому же предмету как к особенности текстов. «Дискурс», в их понимании, первоначально означал именно тексты в их текстовой данности и в их особенностях. Лишь значительно позднее англо-саксонские лингвисты осознали, что «дискурс» - это не только «данность текста», но и некая стоящая за этой «данностью» система, прежде всего грамматика [Op. cit.: 37]. Перво- начально теоретические предположения, основанные на том, что грамматика должна объяснять системно-языковые структуры целого текста, превращаясь, таким образом, в грамматику текста, оставались декларативными и по-прежнему слишком близкими по своему духу генеративной парадигме. Однако вскоре и грамматика текста, и лингвистические исследования дискурса разработали более независимую парадигму. Тексты стали рас- сматриваться как речевые произведения, которых великое множество и ко- торые требуют поэтому выработки общих принципов для своего понимания (для «своей грамматики»).
Подчеркнем одно очень важное для нас замечание Ю.С. Степанова относительно дискурса: дискурс описывается как всякий язык (а не просто текст), как всякий язык, имеющий свои тексты; мы нуждаемся в хороших описаниях дискурсов, без которых не может быть продвинута их теория. В качестве образца П.Серио, который «советский способ
описания дискурса Ю.С. Степанов приводит работы показывает, какое воздействие оказал на русский язык оперирования с языком». Что получилось в русском языке – новый язык? Новый «подъязык»? Новый «стиль»? П. Серио считает, что то, что образовалось в русском языке, должно быть названо особым термином - «дискурс». Ю.С. Степанов следующим образом интерпретирует термин «дискурс»: «Дискурс – это первоначально особое использование языка (например, русского языка) для выражения особой ментальности (например, советской идеологии). Особое использование влечет активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, особую грамматику и особые правила лексики, в конечном счете в свою очередь создает особый «метальный мир» [Op. cit.: 41].
Дискурс не может быть сведен к стилю. Дискурс – это «язык в языке», но представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует не в виде своей «грамматики» и своего «лексикона», как язык просто. Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, в конечном счете – особый мир. В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимических замен, свои правила истинности, свой этикет. Это – «возможный (альтернативный) мир» в полном смысле этого логико- философского термина. Каждый дискурс – это один из «возможных миров» [Op. cit.: 43].
Дискурс в лингвистическом смысле – это функционирование языкового кода (инвентаря и грамматики). Как было уже отмечено выше, Л. Ельм-слев считал, что для каждого процесса можно найти соответствующую систему, на основе которой процесс может быть проанализирован и описан.
Структурирование дискурсивного объекта лингвистика начала со структурирования речевого акта, установления типов иллокутивных актов, с выявления других прагматических закономерностей. Объяснение правил построения дискурса привело к формированию нового «образа языка» -когнитивного.