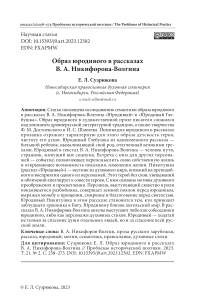Образ юродивого в рассказах В. А. Никифорова-Волгина
Автор: Сузрюкова Е.Л.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию семантики образа юродивого в рассказах В. А. Никифорова-Волгина «Юродивый» и «Юродивый Глебушка». Образ юродивого в художественной прозе писателя сложился под влиянием древнерусской литературной традиции, а также творчества Ф. М. Достоевского и И. С. Шмелева. Номинация юродивого в рассказах прозаика отражает характерную для этого образа детскость героя, чистоту его души. Юродивый Глебушка из одноименного рассказа - большой ребенок, вымаливающий свой род, отягченный великими грехами. Юродивый в текстах В. А. Никифорова-Волгина - человек пути, странник, живущий вне социума. Встреча с ним для других персонажей - событие, позволяющее переосмыслить свою собственную жизнь и открывающее возможность покаяния, изменения жизни. Никитушка (рассказ «Юродивый») - вестник из духовного мира, похожий на преподобного в восприятии одного из персонажей. Этот герой без слов, увещеваний и обличений апеллирует к совести героев. С ним связаны мотивы духовного преображения и просветления. Персонаж, выступающий сюжетно в роли покаявшегося разбойника, совершает земной поклон перед юродивым, выражая мольбу о прощении, смирение и благоговение перед святостью. Юродивый Никитушка в этом рассказе становится тем, кто приводит заблудшего грешника к Богу. Юродивому близок ангельский мир. В рассказах В. А. Никифорова-Волгина ангелы выступают либо как собеседники юродивого, либо как персонажи духовных стихов. Юродивый - ходатай не только за спасение души отдельных людей, но и за спасение всей русской земли.
В. а. никифоров-волгин, проза русского зарубежья, рассказ, юродивый, мотив, семантика, православие, духовные стихи
Короткий адрес: https://sciup.org/147241431
IDR: 147241431 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12302
Текст научной статьи Образ юродивого в рассказах В. А. Никифорова-Волгина
Ю родство выступает как реализация в жизни святого Божественного призыва, сформулированного в житии Андрея Христа ради юродивого так:
«Устремись на добрый подвиг, наг будь и юродив Меня ради и великого блага удостоишься в день царствия Моего» 1 .
В «Православной энциклопедии» юродство определяется как один из самых трудных путей подвижничества, предполагающий «внешнее изображение безумия для обретения истинного духовного смирения»2. Это несоответствие внешнего поведения внутреннему духовному состоянию святого в книге Д. С. Лихачева и А. М. Панченко осмыслено как парадоксальное явление, сопряженное с понятием «зрелище», через которое юродивый выполняет функцию общественного служения, демонстрируя окружающим его людям «ненормальность» обыденного, привычного им мира и открывая в то же время высшую духовную реальность, задающую норму бытия человека в мире3. При трактовке феномена «юродство» в работе исследователей различается его активная и пассивная сторона: «В чем сущность юродства, этого "самоизвольного мученичества"? Пассивная часть его, обращенная на себя, — это аскетическое самоуничижение, мнимое безумие, оскорбление и умерщвление плоти <…>. Активная сторона юродства заключается в обязанности "ругаться миру", т. е. жить в миру, среди людей, обличая пороки и грехи сильных и слабых и не обращая внимания на общественные приличия» [Лихачев, Панченко: 101]. Юродивый, таким образом, не только спасает свою душу, но и, об личая грехи др угих людей, помогает им встать на путь спасения.
По мнению Г. П. Федотова, в уничижении юродивого «раскрывается, — и здесь самая глубокая печать русской святости, — образ уничиженного Христа» [Федотов: 216]. Совершается же подвиг юродства ради того, чтобы, по словам И. А. Есаулова, «воскресить к будущей жизни этот умерший в грехах мир» [Есаулов: 163–164].
Первые юродивые появляются в V в. в среде восточного монашества. Наиболее известны из них свв. Симеон Эмесский и Андрей Цареградский. О. А. Туминская пишет, что появление и переписывание жития св. Андрея Юродивого (Цареградского) принесло на Русь представление о юродстве: «…имен-но тексты с житием Андрея Юродивого были наиболее распространены в среде образованных людей средневековой Руси и для древнерусских авторов служили образцом написания житий русских блаженных» [Туминская: 47].
А. М. Панченко указывает, что первый русский юродивый — Исаакий Печерский (1090 г.) [Лихачев, Панченко: 93]. Г. П. Федотов считает, что «необычное обилие "Христа ради юродивых", или "блаженных", в святцах Русской Церкви и высокое народное почитание юродства до последнего времени, действительно, придает этой форме христианского подвижничества национальный русский характер» [Федотов: 181]. Историк и религиозный мыслитель, говоря о феномене юродства в Древней Руси, отмечает, что в XV–XVI вв. был расцвет этого чина мирянской святости на русской земле.
В русской литературе Нового времени наиболее известны образы юродивых в произведениях А. С. Пушкина («Борис Годунов»), Л. Н. Толстого («Детство»), Ф. М. Достоевского («Братья Карамазовы»), Н. С. Лескова («Маленькая ошибка» и др.), И. С. Шмелева («Лето Господне» и др.). Среди трудов литературоведов, затрагивающих семантику и роль данного образа в художественном тексте, отметим работу В. В. Иванова, посвященную осмыслению христианских традиций в творчестве Ф. М. Достоевского, и исследование В. А. Соткова «Феномен праведничества в прозе И. С. Шмелева 1920–1930-х гг.». По мнению В. В. Иванова, «в художественном мире Достоевского культурный феномен древнерусского юродства воспринят исключительно верно, но при этом творчески разработан и развит с учетом тех изменений, которые произошли к XIX веку и в самом девятнадцатом столетии» [Иванов: 222]. Ученый обращает внимание на отказ писателя от изображения черт юродивого, вызывающих страх у окружающих: «Заслугой Достоевского является то, что он создал свой тип юродивого, сделав героя симпатичным, использовав для этого комизм и наивность, искренность и нравственную чистоту» [Иванов: 220].
В. А. Сотков полагает, что И. С. Шмелев при изображении юродивого опирается как на традиции древнерусской словесности, так и на опыт осмысления такого типа героя Ф. М. Достоевским [Cотков: 192]. При этом исследователь отмечает определенные особенности изображения юродивых в произведениях И. С. Шмелева: эти персонажи показаны «с одной стороны, как самовольные мученики (Семен Колючий в "Блаженных", приват-доцент Сергей Иванович в "Куликовом поле"). С другой стороны, это герои, принимающие юродство "Христа ради" осознанно, после лично пережитых трагедий (Миша в "Блаженных")» [Сотков: 217–218]. В. А. Сотков указывает на две функции, которые выполняют эти персонажи в тексте: характерологическую («они оттеняют главных героев, способствуют более рельефному раскрытию их характеров» [Сотков: 218]) и идейно-тематическую: «…посредством богомольцев и юродивых в эмигрантском творчестве И. С. Шмелева воплощается мысль о возможном пути спасения России и русского народа через великую веру в Христа, Божью Правду» [Сотков: 218].
В произведениях В. А. Никифорова-Волгина (1901–1941)4, на наш взгляд, продолжаются традиционные для русской литературы, в частности, представленные в произведениях Ф. М. Достоевского и И. С. Шмелева, принципы изображения юродивого.
У В. А. Никифорова-Волгина есть два рассказа, центральным персонажем которых является юродивый: «Юродивый» из сборника «Земля-именинница» (1937) и «Юродивый Глебушка» из второй книги прозаика «Дорожный посох» (1938). Примечательно, что номинация главного героя этих рассказов содержит уменьшительно-ласкательный суффикс: Никитушка, Глебушка5. Это именование подчеркивает детскость изображаемых персонажей, их духовную чистоту. В самом деле, иером. Алексий (Кузнецов) замечает, что «смирение юродивых характеризовало их как детей» [Алексий (Кузнецов): 163]: «…св. юродивые следовали за Христом, как малое дитя за своим отцом или матерью, и отложше, по апостолу, всяку злобу, и всяку лесть, и лицемерие, и зависть и вся клеветы, яко новорождени младенцы словесное неленостное молоко возлюбили…» [Алексий (Кузнецов): 165]. Глебушка и в самом деле проявляет детскость, ведет себя, как ребенок. Он на равных играет с мальчиком-рассказчиком, произнося при этом:
«— Я лошадь!.. Фрр. Садись на меня! Дюже прокачу! — закричал он по-извозчичьи»6.
Кроме того, номинация с уменьшительно-ласкательным суффиксом является следованием литературной традиции именования такого рода персонажей. С. А. Скуридина и В. В. Вязовская при анализе антропонимов в произведениях Ф. М. Достоевского и Н. С. Лескова отмечают, что тут «юродивые из крестьян получают сокращенное имя — Лизавета, Настя , которое социально маркировано, а также, в своем уменьшительно-ласкательном варианте, является показателем всеобщей любви к блаженным…» [Скуридина, Вязовская: 81].
Мирское имя Глебушки в рассказе В. А. Никифорова-Волгина — Глеб Ильич Коромыслов. Это потомок купеческого рода, взявший на себя крест юродства ради спасения живших во грехах родственников:
«Остался лишь маяться на земле за грехи родительские Глебуш ка скорбногл авый!..» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 114).
Сам персонаж говорит о том, как его подвиг влияет на участь родных в вечности:
«— Навряд ли его часто мучают… Я за него Господа молю. Всю ночь молю, до самой зари… На меня тятенька заклятье наложил: "Молись, говорит, за род наш! Ты, говорит, блаженный, в обнимку с Христом ходишь!" — Глебушка ткнул себя пальцем в грудь. — Это я блаженный! Меня Христос обнимает, как Своего сродственника…» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 116).
Юродство здесь, таким образом, — путь, который герой избирает, следуя, помимо всего прочего, родительскому благословению. Молитва — основное его занятие.
В рассматриваемых произведениях В. А. Никифорова-Волгина юродивый — человек пути. У него нет постоянного места жительства, он живет как странник. Так, Никитушка идет по «морозной дороге» «в степную завьюженную даль», потому что «Господь туда зовет…»7. Главный герой рассказа «Юродивый Глебушка» «в стужу ночует с нищими в ночлежном доме, а летом на церковной колокольне, в поле, в городском саду, а раз видели его поутру свернувшимся калачиком около могилы отца» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 114). Из провинциального города он ходил пешком в дореволюционную столицу, Санкт-Петербург.
А. С. Конюхова, относя юродивых в произведениях В. А. Никифорова-Волгина к типу героев-странников, отмечает, что автор «строит образ юродивого на пересечении нескольких традиций: сохраняется основа агиографического канона (подчеркнутая нищета и маргинальность героя, проповеднический характер миссии, сопровождаемой чудотворением)», при этом отсутствует «балаганность» в образах [Конюхова: 134]. Заметим, однако, что Никитушка и Глебушка не совершают чудес непосредственно, на глазах у читателя. О Никитушке хозяин трактира говорит:
«Не то блажен муж, не то вскуе шаташася. Нам не разобрать» ( Никифоров -Волгин, 2004 : 125).
Образ Никитушки наиболее обобщен, по сравнению с другими юродивыми героями. У него нет биографии, но Федору, выступающему в сюжете в роли покаявшегося разбойника, Никитушка напоминает «угодника в черной схиме» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 127) с желтыми руками:
«— У него лицо, как у того… и руки тонкие, желтые… его! — У кого, Федор?
— У преподобного!.. Мощи которого я вскрывал…» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 128).
Встреча с юродивым пробуждает в душе Федора покаянное чувство, сожаление о содеянном кощунстве. Завершается рассказ сценой, напоминающей сюжет возвращения блудного сына к отцу:
«Когда все улеглись спать, то Федор подошел к лежащему на скамейке юродивому и поклонился ему до земли. Никитушка приподнялся со своего ложа, обнял его и благословил» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 128).
Мотив земного поклона есть и в рассказе «Юродивый Глебушка». Блаженный открывает мальчику-рассказчику свою тайну только после того, как тот «встал на колени и поцеловал землю» (Никифоров-Волгин, 2018: 117). Заметим, что в народной культуре обычай целовать землю актуализируется «в разных ритуализированных ситуациях: при первой вспашке З<емли> или первом севе; при испрашивании прощения и примирениях; при произнесении клятв, присяги, молитв и т. п.» [Белова, Виноградова, Топорков: 318–319]. Помимо связи с фольклорной традицией, на наш взгляд, в этой ситуации есть неявное указание на первую книгу В. А. Никифорова-Волгина, носящую название «Земля-именинница»: исследователи фиксируют тот факт, что «жители Вятской губ<ернии> в Духов день вставали на колени и несколько раз целовали З<емлю>, считая ее "именинницей"» [Белова, Виноградова, Топорков: 319]. Целование земли при глубоком земном поклоне О. А. Фарафонова называет «истинным земным поклоном», символизирующим «полное единение с землей» [Фарафонова: 111]. В тексте В. А. Никифорова-Волгина такое единение тоже важно: это знак благоговения и нерушимости клятвы, истинности обещания хранить в тайне все, что персонаж услышит от юродивого.
Интересно, что во всех рассматриваемых нами рассказах образ юродивого сопряжен с образами ангелов. В рассказе «Юродивый» Никитушка поет духовный стих, в котором в диалог вступают именно ангелы:
«Вы голуби, вы белые.
Мы не голуби, мы не белые.
Мы Ангелы охранители, А душам вашим покровители»
( Никифоров-Волгин, 2004 : 122).
Духовный стих с похожим началом и повторяющейся строкой (в предшествующем тексте 2-я строка здесь становится 3-й) таков:
«Ой вы, голуби, ой вы, белые! Где летали вы, что видали вы? Мы не голуби, мы не белые, Мы апостолы, Богом посланы. А летали мы, а видали мы, Ой, как грешная душа мимо рая шла, Мимо рая шла, в рай просилася.
Что ж ты поздно так, душа, спохватилася?»8.
Вместо ангелов в этот стих введены апостолы (мотив полета и белый цвет соотносятся все же с образом ангелов). Но при этом в тексте апостолы выполняют характерную для ангелов в духовных стихах функцию: «…встречают человеческую душу в момент ее разлучения с телом. Народ знает ангелов прежде всего как ангелов смерти» [Федотов: 412]. Если в рассказе В. А. Никифорова-Волгина содержание духовного стиха связано с открытием человеку реальности духовного мира и заботой небожителей о душе человека, то здесь центральной является тема загробной участи человеческой души, в православном сознании неотделимой от темы покаяния как непременного условия вхождения в ж изнь вечную.
Ведущим в рассказе В. А. Никифорова-Волгина «Юродивый» является мотив покаяния. Федор, надругавшийся над святыми мощами, кается, увидев Никитушку, похожего на святого угодника. Один из персонажей, Мавра, прислуживающая в трактире, куда пришли и Федор, и Никитушка, произносит такие слова:
«— А почто ты это делал? Матушка, что ли, тебя не благословила, али Ангел Хранитель тебя покинул?» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 128).
Благословение, полученное Федором от Никитушки, в контексте произведения является одновременно и знаком возвращения к нему ангела-хранителя, возможностью спасения, и знаком пребывания под покровом Божиим.
Заметим, что голубь в данном тексте фигурирует и как орнитологический образ — это птица, которую Никитушка спасает от замерзания:
«С мертвой ракиты упал голубь, забитый морозом. Никитушка поднял его, запрятал за пазуху и, тихо улыбаясь, слушал, как вздрагивала окоченевшая птица» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 124–125).
В конце рассказа голубь уже обогрет.
Мотив спасения живой души — и Федора, и птицы, — очевидно, развивается здесь параллельно9. Примечательно, что образ рая, прозвучавший в другом, приведенном у Н. Павловой, варианте духовного стиха, в рассказе прозаика появляется в словах Никитушки:
«— Это не снег, а цветики беленькие, — строго ответил Никитушка. — Господни цветики!‥
Поглядел на дымно-сизое небо и с улыбкой досказал:
— Весна на небесах… Яблоньки райские осыпаются!‥» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 123).
Для юродивого Глебушки ангелы — собеседники:
«— Ты и все, которые кругом, ничего про меня не знают… Они только дурость мою знают, а вот что со мною Ангелы по ночам беседуют и хлеб-соль мы вместе разделяем, про то люди не ведают!‥» (Никифоров-Волгин, 2004: 116).
Есть в тексте и описание небесных вестников, где с ангелами, как и в рассказе «Юродивый», связан именно белый цвет:
«— Приходят они тихие-претихие… белые, как церква наша… и блесткие, как батюшкины пасхальные ризы…» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 117).
Глебушка пытается воплотить в жизнь полученное от ангелов поручение:
«— Ангелы мне сказывали, — начал он потаенно, — что наша земля огнем сгорит. Много прольется крови. Слез будет! (Глебушка закрыл лицо руками, судороги пошли по его телу.) Могилушек сколько будет!.. И-их! И все без крестов, без отпева <…>. И вот говорят мне Ангелы: "Раб Божий Глеб! Иди к царю и митрополиту и упреди их… Пусть облекутся во вретище и с народом своим на землю упадут и покаются…"» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 118).
Дойдя до столицы, Глебушка попадает не к царю10 и митрополиту, а в дом умалишенных. Вернувшись на малую родину, персонаж говорит о намерении выполнить данное ему поручение:
«Но я еще дойду… Завет Ангелов исполню, <…> надо уберечь землю от гнева Божьего!‥» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 119).
Юродивый предстает в этом рассказе в качестве заступника за родную землю, его миссия напоминает миссию ветхозаветных пророков. Юродивому открыт духовный мир и судьба отечества. Особую значимость откровению героя придает то, что грядущие беды действительно постигнут Россию после революции (в контексте рассказов книги В. А. Никифорова-Волгина для читателя это очевидно).
Но если Глебушка живет в дореволюционной России, то Никитушка появился уже после того, как страна пережила революцию, когда стало распространенным поругание над святынями. Однако, несмотря на духовно тяжелое состояние народа, те, кто встреч ается в рассказе с юродивым, преображаются:
«пьяные мужички» оказывают почтение по отношению к юродивому и зовут его с собой, чтобы он не замерз в степи:
«Самый пьяный и лихой с вида растроганно протянул Никитушке шапку и сказал:
— Прими от меня. Холодно тебе. А я и без шапки доеду!» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 124).
Лучшее, что было в душе Федора, для автора — современного ему покаявшегося разбойника, воскресает именно благодаря встрече с Никитушкой:
«— Это верно, что я волк, но по натуре-то своей я жалостный. Ежели, например, запоют, бывало, монахи панафиду али акафист, то у меня на глазах слезы и душа от жалости на части разрывается! Вот и поймите вы меня, братишки!» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 128).
Не случайно с образом юродивого связан в рассказе мотив просветления:
«От его улыбки глаза мужиков стали тихими и светлыми» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 123).
Преображается под воздействием духовного света, исходящего от юродивого, Федор: только он назван в рассказе «ясноликим» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 125). К этому персонажу относится повторяющееся в тексте сравнение «как береза среди черных елей» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 125). В завершении рассказа мотив просветления характеризует именно Федора:
«Федор смотрел на Божий огонек [лампаду], и лицо его светлело…» ( Никифоров-Волгин, 2004 : 129).
Итак, юродивых в исследуемых нами текстах отличает «неотмирность», выраженная не только в социальном статусе и особенностях жизни, внешнем виде, но и в горячей вере, устремленности к Богу, молитвенном общении с Ним, духовном зрении. Благодаря этой близости к Богу юродивые могут способствовать духовному преображению встретившихся с ними персонажей.
В прозе В. А. Никифорова-Волгина с образом юродивого связан мотив спасения души великого грешника. Кается в содеянном совершивший кощунство Федор, встретив Никитушку. Юродивый Глебушка молится за совершивших страшные грехи родственников: за дедушку, о котором говорят в народе:
«…старый черногрешник… Забеременевшую дочку свою ножищами по животу топтал и в погребе на цепи ее держал… Там она, страстотерпица, и померла в затемнении разума…» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 112).
За Карпа Коромыслова, о котором сохранилась недобрая память:
«— Знаем, знаем этого милостивца, Карпушку Коромыслова! Не одну душу по миру пустил! По слезам да кровушке людской, как по ковру, ходил, да еще посвистывал… милостивец этот!» ( Никифоров-Волгин, 2018 : 113).
Молится об отце, умершем от пьянства в ночлежке. Сам Глебушка свидетельствует, что его молитвы не проходят для душ усопших бесследно, и муки их облегчаются. Молитва праведника спасает. Таким образом, с юродивым у В. А. Никифорова-Волгина сопряжены как мотивы покаяния и прощения грехов, так и мотив надежды на спасение для вечной жизни даже для тех, чьи грехи тяжки и велики.
Путь Глебушки и Никитушки в текстах В. А. Никифорова-Волгина не завершен, представлены лишь эпизоды из их жизни. Примечательно, что юродивые здесь являются на русской земле как до революции (Глебушка), так и после нее, когда частым стало поругание над святынями (Никитушка). Образы юродивых свидетельствуют, что Святая Русь с ее идеалами, прежде всего идеалом святости, не исчезла из жизни русского народа11.
Список литературы Образ юродивого в рассказах В. А. Никифорова-Волгина
- Алексий (Кузнецов), иером. Юродство и столпничество. Религиозно-психологическое, моральное и социальное исследование. М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2000. 416 с.
- Белова О. В., Виноградова Л. Н., Топорков А. Л. Земля // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отношения, 1999. Т. 2. С. 315–321.
- Гурин С. П. Феномен юродства. Обзор литературы советского периода // Труды Саратовской православной духовной семинарии. Саратов: Саратовская православная духовная семинария, 2020. Вып. 14. C. 156–182.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
- Иванов В. В. Христианские традиции в творчестве Ф. М. Достоевского: дис. … д-ра филол. наук. Петрозаводск, 2004. 428 с.
- Конюхова А. С. Творчество В. А. Никифорова-Волгина: поэтика сюжета и типология героев: дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2021. 201 с.
- Костанян Н. Н. Древний свет рассказов В. А. Никифорова-Волгина: из русской духовной прозы. М.: Буки-Веди, 2020. 95 с.
- Котова А. П. Образ юродивого в романе Е. Г. Водолазкина «Лавр»: литературная традиция и трансформация // Культурные коды русской литературы: мат-лы Всероссийской (с международным участием) очно-заочной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета Башкирского государственного университета. Уфа: БашГУ, 2017. С. 229–238.
- Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л.: Наука, 1976. 204 с.
- Осьминина Е. А. Церковнославянизмы в автобиографических циклах В. А. Никифорова-Волгина // Русская речь. 2016. № 2. С. 26–31 [Электронный ресурс]. URL: https://russkayarech.ru/ru/archive/2016-2/26-31 (01.12.2022).
- Скуридина С. А., Вязовская В. В. Именование юродивых в произведениях Ф. М. Достоевского и Н. С. Лескова // Русская речь. 2018. № 2. С. 73–83 [Электронный ресурс]. URL: https://russkayarech.ru/ru/archive/2018-2/73-83 (01.12.2022).
- Сотков В. А. Феномен праведничества в прозе И. С. Шмелева 1920–1930-х гг.: дис. … канд. филол. наук. Саранск, 2017. 250 с.
- Туминская О. А. Образ юродивого во Христе в русском искусстве конца XV — начала ХХ века: дис. … д-ра искусствоведения. СПб., 2014. 648 с.
- Успенский Б. А. Избр. тр.: в 3 т. М.: Языки русской культуры, 1996. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. 608 c.
- Фарафонова О. А. Мотивная структура романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2003. 202 с.
- Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М.: АСТ, 2003. 700 с.
- Hunt P. The Fool and the Tsar (The Vita of Andrew of Constantinople and Russian Urban Holy Foolishness) // Новгородский исторический сборник. 2013. № 13 (23). С. 185–272 [Электронный ресурс]. URL: http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2014/12/%D0%9D%D0%98%D0%A1-23_9_opt.pdf (01.12.2022).