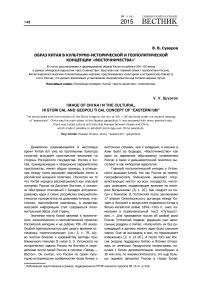Образ Китая в культурно-исторической и геополитической концепции «восточничества»
Автор: Суворов В.В.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Социология и политология
Статья в выпуске: 1 (19), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается формирование образа Китая на рубеже XIX-XX веков в рамках имперской идеологии «восточничества». Выступая как главный объект геополитики России, Китай наделялся многими положительными чертами, прослеживалась культурная и историческая близость его и России, что делало возможным установление покровительства над Китаем мирным путем.
Российская империя, китай, "восточничество", геополитика
Короткий адрес: https://sciup.org/14114043
IDR: 14114043
Текст научной статьи Образ Китая в культурно-исторической и геополитической концепции «восточничества»
-
V. V. Suvorov
IMAGE OF CHINA IN THE CULTURAL, HISTORICAL AND GEOPOLITICAL CONCEPT OF "EASTERNISM"
Динамично развивающийся в настоящее время Китай вот уже на протяжении полутора столетий вызывает пристальное внимание со стороны Российского государства. Россия и Китай, принадлежащие к обширному евразийскому пространству, имеют общие границы, а отношения между ними занимают важнейшее место в российской внешней политике. Несмотря на то что Китай нередко рассматривался как опасный соперник России на Дальнем Востоке, в условиях обострения отношений с Западом актуализировались идеи о смене российских внешнеполитических приоритетов на дальневосточные, участились прокитайские разговоры, в средствах массовой информации стал создаваться положительный образ этой страны.
Значимое место Китай занимал в политических, экономических и геополитических проектах Российской империи и на рубеже XIX—XX веков. Особой оригинальностью для своего времени отличались «восточнические» [см.: 5, с. 78—80], во многом близкие к евразийству взгляды приближенного Николая II князя Э. Э. Ухтомского на исторические задачи России на Востоке и определение места самой России в системе «Запад — Восток». Он считал, что Россия по своим культурно-историческим особенностям была ближе к восточным странам, чем к западным, и именно в Азии было ее будущее. «Восточничество» как один из вариантов обоснования устремления России в Азию и дальневосточной политики выступает и как имперская идеология.
Главный геополитический интерес у Ухтомского вызывал Китай, так как Россия по своему географическому положению занимает «первенствующее место» из всех государств, «могущих оказывать подавляющее влияние на империю богдыханов» [8, с. 26]. Как следует из писем к Николаю II, Ухтомский после заключения 17 апреля Симоносекского договора между Китаем и Японией в результате поражения Китая в Японо-китайской войне 1894—1895 гг. внес изменения в первоначальный текст «Путешествия…». Для проведения мысли об особой роли России Ухтомский подверг редакции уже написанные разделы о Китае: «Напечатать их без руководящей в данную минуту идеи было слишком жалко. Она не высказана в них, но пронизывает изложение» [2, л. 13 об.]. А после того как Россия оказала поддержку Китаю и Япония отказалась от аннексии Ляодунского полуострова, получив с Китая дополнительную контрибуцию в 30 млн лян, по мнению Ухтомского, это еще больше подняло авторитет России в глазах Китая.
Китай, не ставший, в отличие от Индии, европейской колонией, должен был оказаться под покровительством России, имевшей, по мнению Ухтомского, реальные возможности для его защиты или подчинения. Если Россия захочет, писал Ухтомский в 1901 году, «завтра же Кашга-рия, Монголия свободно окрасятся в наш цвет, лишая китайских правителей не только половины владений, но и остатков престижа в Азии… но не делаем этого из принципа и по свойственному нам великодушию» [8, с. 26]. Эти принципы и «великодушие» объяснялись взглядами, высказанными Ухтомским еще в середине 90-х гг. XIX века, на Китай, который еще в полной мере не подвергся воздействиям европейцев и сохранял свои традиционные черты: «Один Китай на страже своих и бессознательно на страже русских интересов со змеиною мудростью отстаивается, копит силы против заморского врага, тоскливо озирается на безмолвствующий Север — единственное государство, откуда воспитанная в принципах самодержавия страна богдыханов может и привыкла ждать нравственной опоры, бескорыстной помощи, фактического союза на почве взаимных интересов» [10, с. 209]. Китайцы, «великий по труду и терпению народ… доведший до высшей степени высоты и простоты культ монарха и культ бессмертия достойных перед отечеством предков» [9, с. 46—47], по мнению Ухтомского, «наш лучший по уживчивости и удобнейший по консервативным качествам сосед» [9, с. 47]. Хотя у Ухтомского были и опасения: «…если врезаться в тину жизненного строя желтой расы… сравнительную молодость и энергию, идеалы и творчество России, быть может, ждет медленная смерть…» [там же]. У него вызывала серьезную обеспокоенность возможность попадания Китая в колониальную зависимость от Запада и использование европейцами китайского населения и ресурсов в военных целях. Он писал: «Наша главная задача на «желтом» Востоке преимущественно должна заключаться в ограждении себя от подобных случайностей, дабы не лить потом напрасно драгоценной русской крови и не тратить огромных денег в борьбе с надвинувшимися напастями, которые всегда нужно предвидеть и предотвращать» [9, с. 48].
Говоря о «духовной мощи» Китая, Ухтомский отмечает то обстоятельство, что, несмотря на общепринятое мнение о Небесной империи с политической точки зрения как «неподвижной и неспособной на активное наступление даже в экономически ей важные районы», на самом деле это «нечто до того громадное и могущест- венное, что нельзя даже предвидеть, во что она разовьется через несколько десятков лет» [9, с. 57]. Ухтомский не исключал вероятности, что Китай, так же как и Япония, мог пойти «по пути материальных реформ и технических усовершенствований», но в более грандиозных размерах [9, с. 58]. В результате он хотя и «питал отвращение к войнам», мог также начать претендовать на преобладание на Тихом океане. Интересную и во многом пророческую мысль высказал Ухтомский о покорении и обуздании Западом Небесной империи: «Что же оно сулит народам и самой Небесной империи? Приобщение ее к нашему материальному прогрессу? Но она нас тогда поборет этим же оружием, опередит и приведет к разорению…» [9, с. 71].
В целом, историческая миссия России сводилась, по мнению Ухтомского, к следующему: «Россия, оставаясь во всеоружии политического положения в Европе, властнее прежнего взглянет на ближний и дальний азиатский Восток, где для творческих сил русского народа, — при минимуме жертв и затрат с совершенно мирными целями, — открыт еще пока поразительный простор для деятельности самого благодарного свойства, Запад (в лице Германии, Австрии, Франции) нам поставит в прямую заслугу такое служение своим непосредственным историческим задачам» [4]. Князь подчеркивал в одной из полемических статей, что « еще в 80-х годах » поднял в печати вопрос о том, «как нам мирно, культурно воздействовать на мир поклонников Далай-Ламы» [7], позднее же под мирное влияние России должен был попасть весь Китай и Азия в целом.
Ухтомский считал, что восточным народам была свойственна потребность в твердом правлении, а Китай по своим политическим традициям оказывается в большей степени, чем другие восточные страны, похожим на Россию: «Цари Китая искони стоят так близко к толпе и за раз, так недосягаемо высоко над нею, что однородность положения создалась и доныне сохранилась лишь в России» [11, с. 141]. Находясь в 1897 году в Китае, Ухтомский писал в одном из писем, что «при патриархальности местного строя все, непосредственно исходящее от личности Государя, для азиатов сугубо важно и дорого» [1, л. 10 об.]. Этим он объяснял почет и рос-кошность приема, оказанных ему; хотя он не имел высоких должностей, но был приближен к императору. Ухтомский видел много общих черт между российским самодержавием [см.: 6, с. 31—34] и политическим устройством Китая.
Свою работу «К событиям в Китае…» Ухтомский посвятил обоснованию мысли, что Рос- сия не должна была входить в антикитайский блок и принимать участие в усмирении волнений в Китае, так как это направляет ненависть народа против России. Уже в 1900 году для него стало очевидным, что «мы стоим там [в Азии], вне всякого сомнения — накануне великих катастроф» [9, с. III], «Запад насилиями своими разбудил желтый Восток» [9, с. 72]. Движение, начавшееся в Китае, по мнению Ухтомского, могло увлечь за собой «объединяющийся общей фанатическою идеей мусульманский мир», а вслед за ними и Индию [9, с. III]. Несмотря на то что князь во многом повторял в брошюре старые идеи, он отмечал, что обстановка на Востоке начала меняться.
Важным событием, подорвавшим теорию установления мирного влияния России на Китай и на Востоке в целом, стало участие России в подавлении «боксерского» восстания. Ухтомский, находясь в это время в Китае, писал Витте в телеграмме из Пекина 6/19 ноября 1900 года: «Роль России, вершительницы судеб Китая, по какому-то недоразумению, ощутительному здесь однако для всех, становится тусклою и неопределенною» [3, л. 118 об.]. По мере разрастания «боксерского» движения в Китае в 1900 году Ухтомский предостерегал от продвижения в «заповеднейшую глубь азиатского материка, с целями разрушений на европейский меркантильный лад» [9, с. IV]. В телеграмме С. Ю. Витте из Пекина 28 ноября 1900 года действия России в Китае, применившей все-таки свои войска для усмирения восстания, оцениваются как «политическое преступление» [3, л. 130].
Вооруженное вмешательство в Китай имело негативные последствия для России, осложнив отношения с Китаем: «Нами спугнут, к собственному нашему неудобству при управлении неприсоединяемой Маньчжурией, злополучный пекинский двор» [8, с. 17]. В связи с этим возникает мотив присоединения Маньчжурии к России. По мнению Ухтомского, России «в только что начинающей разыгрываться борьбе между двумя мирами… положительно нечего выступать пока в активной роли…» [8, с. 23]. Он отмечал: «Упорнейшая на свете раса именно своим пассивным, поразительно-трусливым и в то же время всегда неожиданным отпором испортит еще много крови белому человеку. <…> Надо надеяться, что мы в этой неравной борьбе очутимся в стороне и ни для кого не будем таскать из огня каштаны. Довольно этих каштанов вытаскивать из приморской Маньчжурии, достающейся нам слишком дорогой ценой!» [8, с. 8—9].
Чтобы преодолеть нарастающую с 1897 года неприязнь китайцев к России, их «мало сломить или обезвредить на время, но нужно сознательно и поскорее перевоспитать в ином духе, вникая в склад жизни вообще, весь психический строй народа…» [8, с. 24]. Если этого не сделать, то Китай, «разбуженный в самом нежелательном смысле Западом и нами, именно нам в течение истекающего тысячелетия (т. е. весь ХХ век) может стать опаснейшим из соседей или коварнейшим из подданных» [8, с. 24]. Ухтомский не исключал вероятности, что, как следствие, «косность и политическое безрассудство» Китая могли побудить Россию, «наперекор собственным искренно миролюбивым и консервативным намерениям», к аннексии китайских территорий [8, с. 26]. Однако, несмотря на события в Китае в 1900 году и участие в их подавлении России, Ухтомский еще не отказался от идеи духовного и политического союза России и Китая.
Так, в рамках «восточничества» представлен положительный образ Китая, а самого Ухтомского его оппоненты называли китаефилом. Китай, который еще не стал колонией европейских держав, оказался в центре геополитической концепции «восточничества». Похожесть многих традиций, историческая память, выраженная в идеализации российского монарха, мирный характер установления влияния должны были, по мнению Ухтомского, обеспечить успех России в установлении покровительства над Китаем.
-
1. ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 171.
-
2. ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1370.
-
3. РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 190.
-
4. Ухтомский Э. Санкт-Петербург, 6 января 1896 г. // Санкт-Петербургские вед. 1896. 6(18) янв. № 5.
-
5. Суворов В. В. Место «восточничества» в российской общественной мысли // Власть. 2012. № 12. С. 78—80.
-
6. Суворов В. В. Политические убеждения Э. Э. Ухтомского // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2011. Т. 11, № 2—2. С. 31—34.
-
7. Ухтомский Э. Маленький вопрос газете «Русь» // Санкт-Петербургские ведомости. 1905. 23 авг. (5 сент.). № 202.
-
8. Ухтомский Э. Э. Из китайских писем. СПб., 1901.
-
9. Ухтомский Э. Э. К событиям в Китае. Об отношении Запада и Востока к России. СПб., 1900.
-
10. Ухтомский Э. Э. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток (в 1890—1891). СПб. ; Лейпциг, 1895. Т. II. Ч. 3.
-
11. Ухтомский Э. Э. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток (в 1890—1891). СПб. ; Лейпциг, 1895. Т. II. Ч. 4.
Список литературы Образ Китая в культурно-исторической и геополитической концепции «восточничества»
- ГАРФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 171.
- ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1370.
- РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 190.
- Ухтомский Э. Санкт-Петербург, 6 января 1896 г.//Санкт-Петербургские вед. 1896. 6(18) янв. № 5.
- Суворов В. В. Место «восточничества» в российской общественной мысли//Власть. 2012. № 12. С. 78-80.
- Суворов В. В. Политические убеждения Э. Э. Ухтомского//Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2011. Т. 11, № 2-2. С. 31-34.
- Ухтомский Э Маленький вопрос газете «Русь»//Санкт-Петербургские ведомости. 1905. 23 авг. (5 сент.). № 202.
- Ухтомский Э Э. Из китайских писем. СПб., 1901.
- Ухтомский Э. Э. К событиям в Китае. Об отношении Запада и Востока к России. СПб., 1900.
- Ухтомский Э. Э. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток (в 1890-1891). СПб.; Лейпциг, 1895. Т. II. Ч. 3.
- Ухтомский Э. Э. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток (в 1890-1891). СПб.; Лейпциг, 1895. Т. II. Ч. 4.