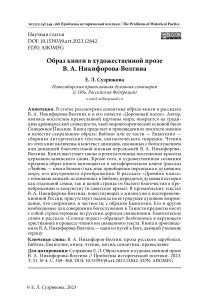Образ книги в художественной прозе В. А. Никифорова-Волгина
Автор: Сузрюкова Е.Л.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена семантика образа книги в рассказах В. А. Никифорова-Волгина и в его повести «Дорожный посох». Автор, являясь носителем православной картины мира, опирается на традицию древнерусской словесности, чьей мировоззренческой основой было Священное Писание. Книга предстает в произведениях писателя именно в качестве сакрального образа: Библии или ее части - Евангелия - сборника литургических текстов, святоотеческого творения. Чтения из этих книг включены в контекст эпизодов, связанных с богослужением или домашней благочестивой жизнью персонажей В. А. Никифорова-Волгина. Книга выступает также в роли источника постижения красоты церковнославянского слова. Кроме того, в художественном сознании прозаика образ книги воплощается в метафорическом ключе (рассказ «Любовь - книга Божия») как знак приобщения персонажа к духовному миру, его внутреннего преображения. В рассказе «Древняя книга» с помощью записей, оставленных в Библии, передается духовная история как отдельной семьи, так и целой страны: от былого благочестия к пренебрежению и кощунству (в советское время). В прозаических текстах В. А. Никифорова-Волгина, повествующих о жизни уже в послереволюционной России, присутствует надежда на ее грядущее духовное возрождение, что сопряжено, в частности, с образом Евангелия. Его и другие необходимые для совершения богослужения и Таинств предметы носят с собой странствующие по русским дорогам священники. Евангельское слово в рассказе «Солнце играет» обращает безбожника в верующего христианина в процессе чтения им священного текста. Книга в произведениях В. А. Никифорова-Волгина - один из путей к Богу, дающий утешение сердцу.
В. а. никифоров-волгин, проза русского зарубежья, библия, евангелие, книга, чтение, мотив, семантика, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/147242340
IDR: 147242340 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12842
Текст научной статьи Образ книги в художественной прозе В. А. Никифорова-Волгина
В асилий Акимович Никифоров, при публикациях добавивший к своей фамилии вторую часть — Волгин (1901–1941), — писатель русского зарубежья первой половины ХХ в. Он менее известен, чем И. С. Шмелев или Б. К. Зайцев, однако творчество этого автора, как и названных прозаиков, имеет черты такого направления в искусстве, которое А. М. Любомудров назвал «духовным реализмом». По словам исследователя, под этой дефиницией подразумевается « художественное освоение духовной реальности, т. е. реальности духовного уровня мироздания и духовной сферы бытия человека » [Любомудров, 2003: 38]. Основой такого творческого подхода «является не та или иная горизонтальная связь явлений, а духовная вертикаль» [Любомудров, 2003: 34]. Произведения духовного реализма воплощают теоцен-трическую картину мира, христианское осмысление мира, истории, человека; отражают иерархическое устроение бытия. По мнению С. Исакова, «Никифоров-Волгин был православным христианином, и это прежде всего определяет его мировосприятие» [Исаков: 334]. Василий Акимович выполнял послушание псаломщика в нарвском Спасо-Преображенском соборе. Персонажи его произведений — в основном верующие люди. Их домашний и церковный быт, духовный путь человека, духовно-нравственные проблемы современной автору действительности находятся в центре его внимания.
Прозаик успел выпустить две книги: «Земля-именинница» (1937) и «Дорожный посох» (1938), которые с точки зрения жанра представляют собой сборники рассказов. Готовилась к печати и третья книга, но писатель после установления советской власти в Эстонии (1940 г.) был арестован, а затем расстрелян. Обвинение опиралось на 58-ю статью УК СССР: приговор объяснялся «изданием книг, брошюр и пьес клеветнического, антисоветского содержания» [Исаков: 334]. Произведения В. А. Никифорова-Волгина в России стали публиковаться только в 90-е гг. ХХ в. Реабилитирован писатель был лишь в 1991 г.
И. В. Бакулина пишет, что «главной школой для Василия Никифорова стала Церковь» [Бакулина: 3]1. Как отмечает Г. П. Федотов, «иногда все "слово" данной культуры вмещается в одной книге. Есть культура одной книги. Христианское средневековье исходит из Библии и ею почти исчерпывается. Отсюда огромное значение "Евангелия в истории" именно как книги, как литературного факта» [Федотов: 509]2. Но то, что справедливо по отношению к целому историческому периоду, может быть отнесено и к творчеству отдельного автора, если его мировоззрение является христианским в своей основе. А. М. Любомудров так писал об аксиологических доминантах, присутствующих в текстах В. А. Никифорова-Волгина: «…христианская вера и православная церковь являются главными ценностями его художественного мира» [Любомудров, 2022: 230]. Поэтому семантика образа книги в произведениях В. А. Никифорова-Волгина сопряжена с тем значением, которое имела книга в древнерусской словесности. Наиболее известный текст, посвященный книге, содержится в «Повести временных лет», когда речь идет о просветительской деятельности св. блгв. князя Ярослава Мудрого (в год 6545, 1037 по Р. Х.):
«…книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь — реки, напояющие всю вселенную, это источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они — узда воздержания. <…> Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми мужами. Тот, кто читает пророческие беседы, и евангельские и апостольские поучения, и жития святых отцов, обретает душе великую пользу»3.
Упоминаемые здесь книги относятся исключительно к душеполезному чтению. Это один из путей спасения души, приобщающий человека к горнему миру.
Среди произведений В. А. Никифорова-Волгина есть два, в заглавии которых упоминается книга: это рассказы «Любовь — книга Божия» и «Древняя книга». В первом из названных рассказов заглавие содержит метафору, отражающую интерпретацию понятия «любовь». В самом тексте появляется образ книги, находящейся в алтаре храма, чтобы пояснить суть внутренних изменений, произошедших с персонажем. Прежде Агапка Бобриков, один из двух центральных героев этого рассказа, наряду с Филиппкой Морозовым, был самым известным озорником в городе:
«Озорства с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину и продать какой-нибудь тетеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольню и ударить в набат, смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество.
Было озорство почище и злее, вызывавшее скандалы на всю окраину»4.
Но благодаря преображающему действию любви «не стало вдруг Агапки, а появился другой, похожий не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащую в алтаре, не то на легкую птицу, летающую по синему поднебесью…» (20). Духовно переродившись, Агапка стал вместо прежнего грешника совсем другим человеком, которого повествователь сравнивает с «Божьей книгой» и «легкой птицей», причастной небу. «Золотые листы» этой «книги» вводят в текст семантику драгоценности, высочайшей ценности того, что случилось с героем. Любовь в этой смысловой парадигме изображается как святыня, поднимающая человека к небу и делающая его сопряженным с Богом. Интересно соположение в одном контексте смыслов неподвижности («лежащая книга») и полета (движение птицы), что задает семантику устойчивости в новом для персонажа положении и в то же время внутренней легкости, им обретенной. Присутствуют здесь и мотивы чистоты и неотмирности, но все же главное, на наш взгляд, — причастность небу, высокой духовности, святости.
В рассказе книга упоминается и в своем предметно-бытовом значении: Надя Зорина, вызвавшая в душах героев, Агапки и Филиппки, удивительное преображающее состояние, сидела «всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой» (20). «Книжка», в отличие от «Божьей книги», дана в тексте с уменьшительным суффиксом, однако обратим внимание на то, что источником духовного изменения в героях послужил персонаж, свободный от праздности, причастный книжному слову. Какие именно книги читала девочка, в рассказе не уточняется.
Центральным понятием в тексте является «любовь», благодаря которой человек становится «Божьей книгой», реализует написанное о любви в духовной Книге с большой буквы в саму жизнь.
В рассказе «Древняя книга» центральный образ — Библия, хранящаяся разными поколениями одного семейного рода. Отношение к этой книге выражено как непосредственно обращением с ней, так и пометами, а также записями внутри книги. Все вместе составляет духовную историю рода Рукавишниковых. Первая запись датирована 1752 г., она написана «узорной славянской вязью тихо и свято» (288). Это благословение всему роду и наказ благоговейно и бережно относиться к Библии:
«Сия боговдохновенная книга, истина и путь вверженному в пучину отчаяния! Сыне мой, возлюби мудрость веков древних и насладися ею яко жаждущий воды живой. Вкушая сладость ея, долголетен и безпечален будеши на земле. Блюди книгу сию яко камень драгий, яко око свое. Да будет она тебе и потомству твоему в дар и благословение» (288).
Церковнославянский язык и образность, восходящая к Ветхому и Новому Заветам, делают эту запись духовным завещанием всему роду Рукавишниковых. Обращение «сыне мой» и тема премудрости отсылают читателя к книге Притчей Соломоновых. Образ воды живой взят из Евангелия от Иоанна. Обетование долголетия — аллюзия на пятую заповедь из книги Исход. Сравнения «яко камень драгий» и «яко око твое» напоминают образность Псалтири. «Истина» и «путь» — слова Христа о Самом Себе из Евангелия от Иоанна («Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6)).
Библия, по словам предка рода Рукавишниковых, — путь из «пучины отчаяния», т. е. духовной гибели, а значит, путь обретения вечной жизни, обетование «безпечалия», т. е. радости, первого из плодов духовных ( «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22-23) ) . Дважды звучит в наставлении предка тема сладости духовной («насладися ею», «вкушая сладость ея»)5, что согласуется с образностью богослужебных, в т. ч. и гимнографических текстов. К примеру, есть акафист Иисусу Сладчайшему, в пятой молитве из утреннего правила упоминается «неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную»6.
В 1812 г. в Библии Рукавишниковых запись содержит уже имена «убиенных на поле брани» и по сути своей является молитвой о упокоении. Так история рода вписывается в историю страны.
Недатированная запись после 1862 г. звучит как ответ на первую запись:
«Сколь велика и премудра книга сия! Мое горе безутешным было, а теперь утешен есть» (289).
Ответ краток. В нем сохранен церковнославянский язык, есть благоговение перед святой Книгой. Здесь имплицитно соблюдено послушание старшему. Исполнивший завет прадеда обрел и плоды его благословения. Вновь звучат темы премудрости и утешения7.
Предшествуют этой записи две другие, открывающие апокалиптическую тему в произведении. Записаны слова Аркадия Петровича Рукавишникова, который в 1845 г. перед смертью сказал в бреду:
«…в мире скорбни будете: Огнь и кровь… престолов колебание, и алтарей осквернение…» (289).
Это то, что исполнилось в ХХ в. и что В. А. Никифоров-Волгин раскрывает подробнее в других текстах. Еще одна запись содержит смысл погружения мира во тьму зла:
«В канун Благовещения 1862 года читал пророчества Даниила о судьбах мира. Спаси, Господи, и помилуй землю Твою, грехми и беззакониями затемненную…» (289).
Это покаянная молитва, трагизм которой придает то, что она рождается накануне одного из важнейших двунадесятых радостных праздников — Благовещения Пресвятой Богородицы.
После древних записей, «ласково положенных дедами» (289), следуют другие, свидетельствующие об умножении грехов на русской земле. Это записи и пометы, уже не связанные с содержанием великой Книги, написанные не на церковнославянском языке, характер которых — исключительно бытовой, житейский:
«Сахарная синяя бумага помогает от кашля, — сверни и кури. Чтобы зыбашное дитя не полошилось, положь веник под зыбку» (289).
К концу XIX в. былое благоговение к Священому Писанию в роде Рукавишниковых утратилось. После 1902 г. идут записи, представляющие собой балагурство, донос и, наконец, кощунство (в 1918 г.). Но здесь же, «в уголке испуганными старческими строками приписано исполнившееся пророчество Аркадия Петровича Рукавишникова в 1845 г.»:
«Огнь и кровь… престолов колебание и алтарей осквернение» (курсив мой. — Е. С .) (290).
Таким образом, во времена революции кто-то из старшего поколения еще сохранял веру в Бога и чтил своих предков.
Последняя запись гласит:
«12 июля 1933 года наша футбольная команда попала в класс "А". Ура!» (291).
Ее оставил уже кто-то из молодых представителей рода. Поскольку эта запись сделана на последней странице Апокалипсиса, то она перекликается с записями, оставленными в XIX в., предвещающими погружение мира во тьму греха. Здесь явлен разрыв нового поколения рода Рукавишниковых с духовными ценностями предков. История духовной деградации рода вписывается в духовную историю отказа от прежних ценностей России. И. А. Казанцева, С. П. Бельчевичен говорят об этом так: «…каждый последующий потомок оставляет следы порочного существования и символичную в контексте проблематики судьбы православных традиций запись…» [Казанцева, Бельчевичен: 34]. Заметим, однако, что хранящие благочестивое отношение к Библии потомки предка Рукавишниковых все же были.
Интересно, что в последней, 22-й главе Откровения Иоанна Богослова, в стихах, близких к завершению текста, где, по-видимому, и сделана последняя запись в Библии Рукавишниковых, тоже содержится образ книги:
«И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Откр. 22:18–19).
В данном контексте появляется еще один значимый образ — образ книги жизни, вечности, пребывания с Богом, которой человек может лишить себя сам, в зависимости от того, как отнесется к содержанию Библии.
Последняя запись в тексте рассказа «возвращает» читателя к началу произведения, акцентируя смысл разрыва между старшим и младшим поколениями рода семьи:
«Когда живы были старики, то Библия лежала под иконами, на полке, покрытая парчовым покровом. Сейчас она служит для хозяйственных надобностей большой семьи бухгалтера Ивана Платоновича Рукавишникова и лежит где попало. Библией пользовались как прессом, подпирали ею окно во время сильных ветров и давали перелистывать малым ребятам. На ее страницах дети рисовали домики и кораблики, садились на нее и становились» (288).
Духовной трагедии, случившейся с Россией, В. А. Никифоров-Волгин противопоставляет повествование о жизни благочестивой русской семьи до революции в циклах «Детство» и «Из воспоминаний детства». Книги, явно или неявно введенные в эти циклы, — церковные. Особенно яркий пассаж, посвященный чтению книги, есть в рассказе «Торжество Православия». Здесь мальчик Вася, от лица которого ведется повествование, читает по вечерам во время Великого поста книгу святителя Тихона Задонского:
«Все чаще и чаще заставляли меня читать по вечерам "Сокровище духовное от мира собираемое" св. Тихона Задонского . Я выучил наизусть вступительные слова к этой книге и любовался ими, как бисерным кошелечком, вышитым в женском монастыре и подаренным мне матерью в день ангела:
"Как купец от различных стран собирает различные товары, и в дом свой привозит, и сокрывает их: так христианину можно от мира сего собирать душеполезные мысли, и слагать их в клети сердца своего, и теми душу свою созидать"» (63).
Образ «бисерного кошелечка», изделия тонкой ручной работы, с которым сравниваются слова этой книги, семантически перекликается с заглавием книги святителя, темой сокровища, ценность которого велика. Есть здесь и аллюзия на евангельскую притчу о драгоценной жемчужине, символизирующей Царство Небесное. Кроме того, «кошелечек» — это дар матери Васе на день ангела, знак материнского благословения.
Любование словами книги получает эстетическую характеристику: звучание отдельных слов8 нравится Васе и его матери:
«Прочтешь, например: "Мир", "Солнце", "Сеятва и жатва", "Све-ща горящая", "Вода мимотекущая", а мать уж и вздыхает:
— Хорошо-то как, Господи!
Отец возразит ей:
— Подожди вздыхать… Это же "зачин".
А она ответит:
— Мне и от этих слов тепло!» (64).
Благоговейным отношением к книге и церковнославянскому слову проникнуто все повествование.
Как замечает иером. Савва (Силантьев), «написание "Сокровища духовного…" в 1777–1779 гг. было обусловлено искренним стремлением святителя Тихона Задонского научить христиан по возможности чаще возноситься умом от земного к небесному, побудить к богосозерцанию» [Силантьев: 241]. Персонажи В. А. Никифорова-Волгина, читая эту книгу во время Великого поста, действительно, устремляются умом от мира «дольнего» к «горнему».
Упоминаемые рассказчиком главки из книги святителя содержат образы, имеющие символическое значение: мир — творение Божие, солнце — Бог, «свеща горящая» — жизнь человека, вода — все временное в жизни, сев и жатва — слово Божие и его плоды в жизни принявшего его человека:
«У земледельцев семена от семян рождаются, так и у христиан от семени слова Божия духовные семена рождаются <…>: покаяние, печаль о Боге, воздыхание, слезы, молитва, благодарение, пение, дела милости, терпение и прочее»9.
В главке «Мир», открывающей «Сокровище духовное от мира собираемое», у святителя Тихона есть образ книги:
«Подобно тому как сочинитель книги из разума своего извлекает слова, и пишет их на бумаге, и таким образом сочиняет книгу, и как бы из ничего нечто делает, так и Премудрый и Всемогущий Создатель, что в Божественном Своем разуме имел и что пожелал, все сотворил, и как бы книгу из двух листов, то есть состоящую из неба и земли, сочинил. В этой книге видим Божие всемогущество, премудрость и благость»10.
Вселенная изображается здесь как книга, что соответствует средневековому христианскому представлению о мире.
Итак, книга в этом рассказе — сочинение святого, служащее для духовного назидания читателей, а также источник постижения красоты слова. Эта книга повествует о другой книге, написанной перстом Божиим, — мире — мире, указывающем на своего Творца.
Заметим, что чтение здесь, как и в храме, благоговейное:
«Читаешь творение долго. Закроешь книгу и по старинному обычаю поцелуешь ее» (64).
В другом рассказе прозаика — «Солнце играет» — книга тоже имеет важное сюжетное значение11. Это пасхальный рассказ, в котором безбожник вместо кощунственных слов во время театрального представления, как было изначально задумано, продолжает читать Евангелие. В зале звучат заповеди блаженства:
«В зале стало тихо. Ростовцев начал читать:
— Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное… Блаженны плачущие, ибо они утешатся…
Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было произнести обличительный и страшный по своему кощунству монолог, заключив его словами: — Подайте мне фрак и цилиндр!
Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. <…> Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Евангелие. Руки его нервно теребят хитон. По лицу проходят судороги. Он опускает глаза в книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче начинает читать дальше: — Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны ми-лостивии, ибо они помилованы будут…» (355).
Ростовцев неожиданно духовно преобразился, это и есть пасхальное чудо, случившееся в рассказе. А. С. Конюхова пишет об этом так: «Лицедейство перерастает в исповедь, а актерская игра становится торжеством Воскресшего Христа» [Конюхова: 67]. Подобная ситуация напоминает обретение христианской веры актерами во времена гонений на христиан, которое происходило с ними прямо на сцене. Эти актеры стали мучениками и исповедали свою веру, невзирая ни на что. А. Д. Пантелеев в статье, посвященной теме такого рода исповедания веры, пишет: «Наиболее известны истории Порфирия (275 г.), Геласия или Геласина (297 г.), Ардалиона (298 г.) и Генесия (ок. 303 г.)» [Пантелеев: 391].
Зрители тоже получили глубокое впечатление от евангельских слов. Об этом свидетельствует тишина, Ростовцева не освистали. Напротив, «никто в зале не пошевельнулся» (356), хотя до его выхода «зал раздирался от хохота» (354).
Чтение Евангелия во время представления уподобляется праздничному крестному ходу:
« и в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг церкви, слова Христа:
— Вы свет мира… любите врагов ваших… и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…
Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевельнулся» (356).
Завершается представление так:
«…на сцене произошло еще более неожиданное, заставившее впоследствии говорить почти всю советскую страну.
Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес: — Помяни мя, Господи, егда приидиши во Царствие Твое!..» (356).
Таким образом, духовное перерождение человека осуществилось благодаря чтению Евангелия, под воздействием Его благодатных слов. Ю. Н. Золотых считает, что в рассказе ведущей является «линия Богопознания и очищения» [Золотых: 584].
В рассказе В. А. Никифорова-Волгина «Архиерей» появляется священник Василий Нильский, который, странствуя по русским дорогам во времена гонений на Церковь, носит с собой все необходимое для богослужения, в т. ч. «служебные книги» (330). Отец Афанасий в повести «Дорожный посох», как и отец Василий, несет с собой «Запасные Дары, Евангелие, деревянную чашу, служебник да требник» (407). Приходом для этих батюшек становится вся Россия, переживающая последствия революции. В конце повести отец Афанасий свидетельствует о других таких же, как и он сам, странниках, и о покаянии русского человека, что дает надежду на духовное возрождение народа:
«Да разве могу я ослабнуть духом, когда вижу я… сотни пастырей идут с котомками и посохами по звериным тропам обширного российского прихода. Среди них были даже и епископы, принявшие на себя иго апостольского странничества… Все они прошли через поношение, заключения, голод, зной и ледяной ветер <…>, но в глазах и в голосе сияние неизреченной славы Божией, непоколебимость веры, готовность все принять и все благословить <…>. Не одну сотню исповедей выслушал я (и страшные были эти исповеди), и все кающиеся готовы были принять самую тяжкую епитимию и любой подвиг, чтобы не остаться вне чертога Господня» (424–426).
Чтению церковных книг12 посвящен рассказ В. А. Никифорова-Волгина «Молнии слов светозарных». Один из его центральных героев, дедушка Влас, любил «светозарный язык житий, пролога, Великого канона Андрея Критского, миней, триоди цветной и постной, октоиха, Псалтыри и прочих боговдохновенных песнопевцев» (142). Сюжет рассказа строится вокруг чтения этих книг, главным образом для любования церковнославянским словом, сопряженным здесь со световой семантикой. Интересно, что в книге «Земля-именинница», куда вошел рассматриваемый нами текст, есть рассказ, в котором поясняется значение слова «светозарный», вынесенное здесь в заглавие. Нищий Яков из рассказа «Плащаница» говорит, что «в древних сказах» «Светозар-днем» (86) называли Пасху. Поэтому «светозарные» слова в церковных книгах связываются для персонажей рассказа с красотой, торжеством веры и радостью, напоминающей радость пасхальную.
Наконец, в рассказе «Песня» книга — то, что мечтает написать для людей Егор Веткин, мастер по лужению медной посуды. Это человек, который ценит чтение и любит книги. Обращаясь к рассказчику, он говорит:
«— Книги… тебе завещаю. Не держи их только в сыром и темном месте… они, книги-то… как люди — уход и тепло любят…» (167).
Значимо место, в котором хранятся у него книги:
«— Неподалеку от икон, на полке, занавешенной холстиной, стояли книги <…>, бережно укутанные Егором в золотистую бумагу…» (167).
Важным событием в жизни Егора стало постижение грамоты:
«Никогда не забыть, как удалось ему из букв составить слова и уразуметь священный смысл их» (168).
Примечательно, что первую фразу он прочитал именно из пасхального Евангелия13:
«Слава Тебе, Господи, слава Тебе, что постиг я теперь слова Твоего евангелиста: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был о Бог"» (168).
Егор мечтает написать книгу «хорошую, светлую и на весь мир!..» (169), которая принесла бы благую весть о Христе и указала бы путь к Нему:
«—Я изложил бы в ней все, — засветился он, — и как живут люди, и как мучаются они, и как жаждут все Христова утешения, и что на земле у нас неладно, и все мы, одним словом, нехорошо живем!» (169).
Эту книгу, которая обратила бы людей к покаянию, герой называет «песней»:
«Написал бы ее в виде песни, как у господина Александра Сергеевича Пушкина. Она… Эта книга-то… большую пользу принесла бы людям!» (169).
Здесь один из редких случаев упоминания в произведениях В. А. Никифорова-Волгина светской, а не церковной книги. Сочинения А. С. Пушкина — высочайший образец художественного словесного творчества в русской культуре, который в данном рассказе выступает в роли эталона для несостоявшегося писателя из народа. При этом творения известнейшего русского поэта вводятся в контекст, характеризующий скорее духовные, а не светские книги, указывающие путь ко спасению души. Назначение искусства, таким образом, понимается автором как один из путей духовного преображения человека. Отметим, кроме того, акцент на эстетической стороне изображаемого: книга в контексте произведения именуется «песней», произведением, которое должно оказать сильное эмоциональное впечатление на адресата.
Итак, книги в художественной прозе В. А. Никифорова-Волгина — это слово о Боге, облеченное в художественную форму, которое прямо говорит о пути к Нему или дает утешение сердцу. С книгой у Никифорова-Волгина связан мотив чуда, духовного изменения: из греховного состояния в светлое, чистое, причастное святости. Книга указывает путь в Царство Небесное. Она может быть благословением целому роду, духовным завещанием, как в рассказе «Древняя книга». Центральный образ книги в текстах прозаика — Библия и Евангелие. Часто в ткань повествования вводятся фрагменты из богослужебных книг14, из святоотеческих творений в сюжет включено поэтичное «Сокровище духовное от мира собираемое» свт. Тихона Задонского. Среди светских произведений автор выбирает для упоминания в своем рассказе стихотворения А. С. Пушкина не только как образец эстетического совершенства, но и как имеющие духовную глубину сочинения, способные изменить состояние души читающего их человека.
Список литературы Образ книги в художественной прозе В. А. Никифорова-Волгина
- Бакулина И. В. Предисловие // Никифоров-Волгин В. А. Ключи заветные от радости. М.: Даръ, 2015. С. 3–6.
- Белова О. В. Книга // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отношения, 1999. Т. 2: Д–К (Крошки). С. 514–515.
- Золотых Ю. Н. Феномен христианского юмора в творчестве Василия Никифорова-Волгина // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 580–586 [Электронный ресурс]. URL:https://science-education.ru/ru/article/view?id=15197 (01.06.2023).
- Исаков С. Забытый писатель // В. А. Никифоров-Волгин. Дорожный посох. М.: Советская Россия, 1992. С. 330–339.
- Казанцева И. А., Бельчевичен С. П. Православные ценности в русской прозе ХХ–XXI вв. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2016. Ч. 1. 188 с.
- Конюхова А. С. Творчество В. А. Никифорова-Волгина: поэтика сюжета и типология героев: дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2021. 201 с.
- Летаева Н. В. Образ слова в прозе В. А. Никифорова-Волгина // Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие: XХIII Кирилло-Мефодиевские чтения (24 мая 2022 г., Москва): мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. М.: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2022. С. 665–670. (а)
- Летаева Н. В. Пасхальный хронотоп в прозе В. А. Никифорова-Волгина // Ученые записки Новгородского государственного университета. Великий Новгород, 2022. № 4 (43). С. 475–478 [Электронный ресурс]. URL: https://portal.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=1887014 (01.06.2023). DOI: 10.34680/2411-7951.2022.4(43).475-478 (b)
- Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 272 с.
- Любомудров А. М. Лики России в творчестве Василия Волгина // Словесное искусство Серебряного века и русского зарубежья: проблемы преемственности (V Смирновские чтения): мат-лы V Междунар. науч. конф. М.: МГОУ, 2022. С. 229–235.
- Осьминина Е. А. Тексты церковных песнопений в циклах «Детство», «Из воспоминаний детства» В. А. Никифорова-Волгина // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: Гуманитарные науки. М.: МГЛУ, 2015. № 5 (716). С. 216–226.
- Пантелеев А. Д. Из мимов в мученики: истории об обращении римских актеров // Мнемон: исследования и публикации по истории античного мира. СПб.: СПбГУ, 2013. Вып. 13. С. 389–402.
- Пиков Г. Г. Библия как «книга» // Шестые Макушинские чтения: тезисы докладов науч. конф. (22–23 мая 2003 г., Новосибирск). Новосибирск, 2003. C. 14–17.
- Силантьев С., иеромон. Приемы художественной выразительности в творчестве святителя Тихона Задонского (на примере произведения «Сокровище духовное от мира собираемое») // Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. Тамбов: ТПС, 2019. Вып. 8. С. 240–253 [Электронный ресурс]. URL: https://tamds.ru/wp-content/uploads/2020/04/0240-0253.pdf?ysclid=lmhnhlsfxa653864597 (01.06.2023).
- Смирнова Е. Н. Православие в русской прозе начала XX века // Русская словесность как основа Русского мира: мат-лы ХV Междунар. Форума (16–18 мая 2019 г., Липецк — Задонск). Липецк: ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. С. 229–233.
- Федотов Г. П. Мысли по поводу Брестского мира // Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М.: АСТ, 2003. С. 509–512.