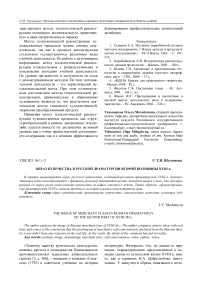Образ купечества в русской драматургии второй половины XVIII в
Автор: Шоломова Татьяна Валентиновна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 6, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется образ русского купечества, созданный русскими драматургами XVIII в. Художественные идеи сопоставляются с фактами реальной действительности, делается вывод о том, что декларируемый со сцены рост самосознания купечества не нашел отклика в жизни. Таким образом, сформулированные драматургами XVIII в. идеалы третьего сословия в реальности потерпели крах.
Образ эстетический, драматургия, купечество, самосознание, ценность, культура, добродетель
Короткий адрес: https://sciup.org/148181119
IDR: 148181119 | УДК: 821.161.1-2
Текст научной статьи Образ купечества в русской драматургии второй половины XVIII в
T.V. Sholomova
THE IMAGE OF MERCHANT CLASS IN RUSSIAN DRAMATURGY
OF THE SECOND PART OF XVIII-TH c.
The author analyzes the image of Russian merchant class of XVIII-th c. The author compares artistic ideas with real facts and comes to the conclusion that the growing up of merchant’s self-consciousness declared from the Russian theatre scene didn’t have any response in the real life. As the result, the ideals of the commons bursted in reality.
«Темному царству купеческого самодурства, наживы, расчета и своекорыстия Плавильщиков противопоставляет идеальных добродетельных героев» [5, с. 506], – написано о комедии «Сиделец» (1793) в советском учебнике по истории литературы. Интересно, что, по каким-то причинам, охарактеризовать представленные в комедии сцены из купеческой жизни XVIII в. иначе, как в терминах Н.А. Добролюбова, невозможно. У живучести образа, навязанного цело- му сословию, есть какая-то причина, – раз уж его распространяют даже на историческое прошлое. Судя по самим пьесам XVIII в., нет повода для того, чтобы локализовать «темное царство» в границах одного сословия (если уж так необходимо обнаруживать его несомненные признаки). Стоит вспомнить хотя бы то, что писал в «Недоросле» (1782) о провинциальном дворянстве Д.И. Фонвизин, чтобы, возможно, попытаться построить другую концепцию, – например, об общем невысоком уровне образования в стране.
Тема купечества оказалась заметной на русской сцене соответствующего периода, но связано это не столько с ростом самосознания отечественной буржуазии, сколько с процессом демократизации театра. Наивысшего развития русский демократический театр достигает в творчестве уже упомянутого П.А. Плавильщи-кова, выходца из купеческой среды, получившего высшее образование в Московском университете и, помимо сценической деятельности, преподававшего в высших учебных заведениях обеих столиц [5, с. 501]. Главная заслуга Пла-вильщикова — идеи и практические действия по реформированию русской сцены. Он требовал соединения в комедии чувствительного элемента и смешного; критиковал Мольера, высмеивающего буржуа.
По более ранним пьесам видно, что авторы стремятся обнаруживать у купцов достоинства. Например, у В.И. Лукина Щепетильник (торговец галантерейным товаром) в одноименной комедии (1765) притягивает к себе носителей социальных пороков, дает взглянуть на них в преувеличенном изображении и одновременно наказывает, сдирая с покупателей втридорога за тот вздор, за который они готовы платить (вертопрашка Нимфодора, пришедшая в лавку с подружкой вертопрашкой Маремьяной, говорит: «Я ни в чем нужды не имею, а хочу купить себе от скуки несколько безделиц» [6, с. 103]). То есть, у Лукина торговец не является отрицательным персонажем только потому, что занимается торговлей – напротив, он из приличной семьи и с хорошим образованием (отец его был «офицер», т.е. госслужащий, и позаботился о воспитании сына [6, с. 98]); сам Щепетильник не нашел себя на государственной службе, т.к. служить честно не было никакой возможности, и ушел в торговлю, видя свою социальную миссию в обнаружении и искоренении дурных нравов («искоренение» состоит в разорении дворян; третью часть дохода он отдает бедным). Его финальная реплика такова: «…Все, слушающие мои шутки, над осмеянными образцами тешиться изволят и тем доказывают… что над собою никто смеяться не любит, а над ближним все готовы, от чего я их до тех пор отучать буду, покуда сил моих станет» [6, с. 121].
Внимания заслуживает также комическая опера «Санкт-Петербургский гостиный двор» М.А. Матинского (1781), и не только говорящими именами (главного героя зовут Ферапонт Сквалыгин, жену его – Саламанида Мироновна, дочь – Хавронья. Других купцов зовут: Протор-гуев, Перебоев, Разживин; положительный герой — офицер Прямиков). Сквалыгин – нечестный торговец, ростовщик, присваивающий себе чужие деньги, и просто жадина, а жена у него пьяница. Тут уместно вспомнить комментарии И.Забелина к «Домострою», в котором для женщины «нет приличных невинных удовольствий… и потому он принужден отказать ей во всяком удовольствии» [4, с. 14], – чтобы не имела времени развлекать себя хмелем, а сколько женщин действительно так развлекались, неизвестно. Судя по пьесам, в купеческой среде ситуация такой и осталась до конца XVIII в. Сала-манида на девичнике потчует гостий вином, Улита пить не хочет, а Афросинье запрещает муж, купец Перебоев [7, с. 284-285] (в «Сидельце» также есть намек на возможное пристрастие купеческой жены Мавры к выпивке [9, c. 489]); женщины обсуждают, как на их склонность выпить смотрят мужья [7, с. 290-291]. Потом разговор переходит на обыкновения как таковые: женщины делятся, кого, за что бьет муж: Улиту – если не набелится бело и зубы не подчернит, сваху – если хоть волосок торчит [7, с. 294]. Неоднозначность характеров героев раскрывается в разговоре Саламаниды с мужем – она, хоть и любительница выпить, отличается гостеприимством и щедростью. Сквалыгин требует, чтоб для свадьбы купила с вечера черствых хлебов, а она возражает, мол, «от хлеба-то не изубыто-чишься»; он вообще ей советовал продуктов накупить с вечера, во-первых, все почти задаром отдают, во-вторых, «худого-то меньше съедят» [7, с. 291].
Будущего зятя Сквалыгиных зовут Крючко-дей, он подьячий, также отличается жадностью (когда на девичнике сваха ему замечает, что чару вина не одному следовало пить, а с невестой поделиться, он отвечает: «я бывало взятками не деливался», – а потом выпивает еще одну, недопитую невестой [7, с. 283-284]). Вообще, этот брак (купеческой дочери с подьячим) заслуживает отдельного внимания, т.к. Матинский описывает одну из архаичных форм сращивания частного капитала с государственной властью. Будущий зятек уже обещал тестю «за напополам» не давать ходу поданному ко взысканию векселю на 10 тысяч [7, с. 277]. Сквалыгин высказал намерение избавиться от зятя, «крапивного племени», пока он и его не надул [7, с. 303304], но «сдала» заимодавцам-правдолюбцам отца родного все-таки дочь Хавронья, отнюдь не зять [7, с. 300-301].
Весь второй акт, когда заимодавцы являются к Сквалыгину требовать долги, занят девичником. Матинский перенес на сцену обряды, уже, видимо, отмирающие (Крепышкина вспоминает, как ей на свадьбу положили в кармашек глинки, чесночку, расческу, зеркальце и денежку, а Прямиков говорит, что свадебные обычаи кажутся нам смешными, потому что мы от них отвыкли [7, с. 290]); девушки поют старинные народные песни (одна из них, «По лесам Хав-роньюшка соболем прошла», известна сейчас только благодаря упоминанию Матинским), – то есть, купеческая среда, в отличие от дворянской, представлена как хранительница народной культуры.
Действие «Сидельца», ставшего вершиной раскрытия купеческой темы в драматургии XVIII в., происходит, так сказать, внутри буржуазного сословия. Там действуют только купцы; дворянство не является судить русскую буржуазию с высоты своего социального величия, как это было принято ранее. У героев говорящие имена: Андрей Честин, справедливый купеческий голова Сидор Лукьянович Праводе-лов; купцов-лжесвидетелей зовут Бездушников, Плюгавцов и Неправдин. Тема «власти денег», безусловно, затронута (чужое состояние становится источником искушения для недостаточно чистоплотного опекуна Харитона, который пытается отнять его у опекаемого Андрея, – и это не смотря на все благодеяния, которые совершенно бескорыстно оказал ему Аким Честин), но не совсем тем образом, какой будет принят в XIX в. У Плавильщикова бедность не представлена как источник всех добродетелей, а богатство – как мать всех пороков. Носителями морального идеала оказываются бедный сиделец Андрей и богач Праводелов. Между комедиями Ма-тинского и Плавильщикова двенадцать лет, но нравы изменились сильно. Мы наблюдаем нравственный прогресс: дети больше не находят добродетели в том, чтобы свидетельствовать против отца родного, даже если он не прав. Андрей запрещает подобное своей возлюбленной Параше [9, с. 515], а в финале пьесы изъявляет готовность, несмотря на претерпленные обиды, всячески лелеять старость едва не разоривших его Харитона и Мавры. Налицо также культурный прогресс: Параша наотрез отказывается белиться, находя это вредным, не румянится и не чернит зубы [9, с. 484-485]. Андрей читает книги, в том числе Фенелона, и «ходит в комедь» [9, с. 506]; Парашу он также приохотил к чтению. Вопрос о чтении книг купцом XVIII в. чрезвычайно важен: во-первых, как не вспомнить Б.Франклина, позволявшего себе читать книгу в лавочке только потому, что ее было легко спрятать, и никто из тех, от кого зависела его репутация торговца, ни разу не заметил, что молодой человек позволяет себе отлынивать от работы [10, с. 474] (соображение, судя по пьесе, глубоко чуждое русскому человеку). Во-вторых, специально сделанное уточнение по поводу Ф.Фенелона. При описании прогрессивных взглядов Плавильщикова ссылаются на его переводы из Монтескье, Вольтера, Мерсье [5, с. 502]; но, быть может, ничто так не свидетельствует о высоком сословном самосознании, как образ русского юноши, представителя буржуазии, читающего Фенелона, – автора, далеко не равнодушного к социальным проблемам и ставившего в своих сочинениях вопросы о свободе и равенстве, а не только о разных способах монархического правления [3, с. 92-93].
Но самое замечательное в комедии – программная речь Андрея: «Никогда не воображал переменить состояние купеческое на военную службу. Хороший купец, поставив на честности торг свой, может столько же Отечеству принести пользы, сколько дворянин, проливая кровь свою для защиты, спокойствия и славы. Если б купцы знали всю важность своего состояния; на что им надевать мундир? На то разве, чтоб краснеться, не умея носить его. Кто рожден владеть аршином, тому шпага несподручна» [9, с. 505506]. Собственно, эти слова, вероятно, следует признать вершиной выражения сформировавшегося самосознания отечественной буржуазии (идет 1793 год; представителю эпохи Просвещения настала пора разочароваться в революционных идеалах; но с Плавильщиковым, буржуа по рождению, этого явно не происходит).
…Тридцать шесть лет спустя мотающийся по России Иван Иванович Выжигин где-то в провинции встретится с немолодым добродетельным купцом Сидором Ермолаичем, устами которого писатель Ф.Булгарин поделится с читателем собственными суждениями о причинах исключительной нестабильности отечественного купечества, – ведь русские купеческие семьи долее двух поколений не живут, и вряд ли можно отыскать династию, основоположник которой начал дело хотя бы во времена Екатерины
II. Быть купцом настолько социально неприемлемо, что люди либо спиваются, либо меняют сословие, переходя в дворянство [2, с. 187]. Теоретически, судя по возрасту, так сетовать мог бы сильно постаревший герой Плавильщикова, – и тогда, если бы в отечественной культуре существовала хоть малейшая возможность предполагать наличие идеалов у представителей буржуазии, – то речь шла бы, безусловно, о крушении идеалов поколения, а то и целой эпохи.
На первый взгляд, справедливо предположить, что литература только отразила процесс, произошедший в реальной действительности, как это нередко бывает. Но историки, анализируя рубеж XVIII-XIX вв., констатируют иное: необыкновенную пассивность во всех слоях населения, никаких признаков сословного самосознания и полное нежелание проявлять какую бы то ни было политическую активность, даже когда инициатива проявляется сверху (Екатерина, желая поспособствовать формированию третьего сословия, пригласила к себе 28 купцов, что вызвало у среднего купечества подозрения, как бы избранные не укрепились у власти чрезмерно, в ущерб остальным; впрочем, столь же пассивно и подозрительно к попыткам власти вступить в диалог проявляло себя дворянство) [1, с. 196]. Купеческим идеалом в реальной жизни была и оставалась возможность вести себя «по-дворянски», как богатый дмитровский купец А.И. Толченов. Он был уважаемым человеком не только среди купечества, избравшего его депутатом в Уложенную комиссию, но и среди представителей знати. Ему наносили визиты князья, церковные иерархи и даже московский губернатор; сам Толченов с особым пристрастием фиксировал имена, титулы и должности визитеров. Ему были не чужды художественные интересы: бывая в Москве, он посещал театры, книжные лавки, музеи. Разбогатев, отошел от дел, передоверив все приказчикам, зажил на широкую ногу, построил самый богатый в городе дом, играл в карты; постепенно богатство его стало таять. Т.к. он не был дворянином, в случае разорения он не мог рассчитывать на помощь государства [8, с. 512], – тоже своего рода «крушение купеческого идеала», но совершенно другого.
Таким образом, мы наблюдаем значительную разницу между искусством и реальностью, между теми образцами, которые оставила нам драматургия XVIII в. и теми, которые поставляла сама жизнь. Купцы, выводимые на русскую сцену, были далеко не однозначны, но совершенно точно не представлялись носителями беспро- светного порока; за ними признавали многие достоинства, например, сохранение обрядов и традиций старины, хлебосольство, тягу к культуре и просвещению в разных формах. В конце столетия появился «Сиделец», главный герой которого, казалось бы, свидетельствовал о том, что самосознание третьего сословия сформировано, и у российского купечества есть не только экономическая, но и социально-историческая перспектива. Увы, инерция общества и пассивность представителей самых разных слоев населения была такова, что оптимистичным чаяниям и упованиям не суждено было сбыться.