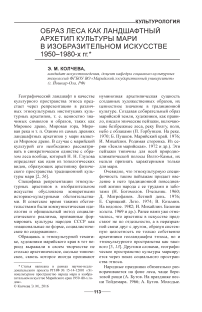Образ леса как ландшафтный архетип культуры мари в изобразительном искусстве 1950-1980-х гг
Автор: Колчева Эльвира Мазитовна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются формы репрезентации геопространственного архетипа Древа/Леса мари в изобразительном искусстве марийского края 1950-1980-х гг. Их специфика в советское время обусловлена методом социалистического реализма, а потому они явлены прежде всего как типические образы.
Марийское изобразительное искусство 1950-1980-х гг., культурный архетип, социалистический реализм, национальный неомифологизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14723307
IDR: 14723307
Текст научной статьи Образ леса как ландшафтный архетип культуры мари в изобразительном искусстве 1950-1980-х гг
Специфика репрезентации этнокультурных архетипов в изобразительном искусстве обусловлена конкретными историко-культурными обстоятельствами. В советское время такими обстоятельствами были коммунистическая идеология и официальный метод социалистического реализма, призванные формировать культуры народов СССР как «национальные по форме, социалистические по содержанию».
Обращаясь к этнокультурной тематике, художники марийского края в тот период выражали в своем творчестве не столько архетипическое, сколько типическое, сквозь которое иногда проникают нуминозная архетипическая сущность созданных художественных образов, их ценностное значение в традиционной культуре. Создавая собирательный образ марийской земли, художники, как правило, писали эпические пейзажи, включающие безбрежные леса, реку Волгу, поля, небо с облаками (П. Горбунцов. На реке. 1970; Б. Пушков. Марийский край. 1976; И. Михайлин. Родимая сторонка. Из серии «Земля марийская». 1972 и др.). Эти пейзажи типичны для всей природноклиматической полосы Волго-Камья, их нельзя признать характерными только для мари.
Очевидно, что этнокультурную специфичность таким пейзажам придает введение в него традиционной повседневной жизни народа с ее трудами и заботами (Н. Богомолов. Пчельник. 1960; Д. Митрофанов. Летний день. 1976; Е. Скрицкий. Лето. 1974; В. Козьмин. На водопое. 1982; И. Михайлин. Беление холста. 1969 и др.). Ранее нами уже отмечалось, что архетипы в искусстве предстают не по отдельности, а в неразрывной связи друг с другом, образуя системную целостность не только собственно архетипики геоландшафта этноса, но и этнокультурного пространства как такового [3, 13 ]. Другими словами, географическое пространство культуры маркируется через показ социального пространства этноса.
Народные праздники обязательно разворачиваются на фоне леса, чаще березовой рощи (А. Бутов. На празднике песни Тойдемара. 1966; А. Бутов. Молодые.
® Финно – угорский мир. 2016. № 4 1974 и др.). Прежде всего это советский Праздник цветов (мар. Пеледыш пайрем ), призванный изжить в быту старые праздники, связанные с марийской традиционной религией (И. Ефимов. Праздник цветов. 1977; Б. Пушков. Праздник цветов. Центральная часть триптиха «Песня». 1975–1980 гг. и др.).
Обращаясь к этнокультурной тематике, художники марийского края выражали в своем творчестве не столько архетипическое, сколько типическое, сквозь которое иногда проникают нуминозная архетипическая сущность созданных художественных образов, их ценностное значение в традиционной культуре.
В советском искусстве марийского края дерево иногда предстает в своей архетипической роли оси мира и священного дерева (мар. онапу ). В ряде работ, например Г. Осокина «На полевом стане» (1960), И. Ефимова «Праздник цветов» (1977), Н. Токтаулова «Колхозницы деревни Товарнур» (1980), эта роль ассоциативно угадывается в повествовательном сюжете из композиции картины. У Г. Осокина повествование разворачивается под сенью мощного дуба, как и события праздника на картине И. Ефимова «Праздник цветов» (1977). Дуб, подчеркивает Т. Н. Беляева, относится к «числу священных деревьев, наиболее почитаемых марийцами-язычниками... Именно к его подножию мари приносили жертву и молились» [1, 27 ]. В последнее десятилетие советской эпохи сакральная семантика образа репрезентируется национальными художниками-неомифологами открыто (И. Ямбердов. Родник Чавайна. 1989; Ю. Таныгин. Мелодии прошлых лет. 1990).
Дерево/лес как культурно значимый элемент ландшафта предстает на полотнах, на которых запечатлены территории, связанные с основоположником марийской литературы Сергеем Чавайном (Б. Пушков. Береза, посаженная Чавай- ном. 1968; В. Андреев. За околицей Ча-вайнура. 1987 и др.). Так, Б. Пушков в 1968 г. пишет посаженную у родительского дома еще самим автором легендарного стихотворения «Ото» («Роща») березу. В этом конкретном дереве зафиксирована не только религиозномифологическая ценность Березы как архетипа традиционной культуры мари, но и культурно-историческая значимость личности писателя и его творчества для марийского народа.
Исключительным явлением марийского изобразительного искусства 1950– 1980-х гг. необходимо признать специфический локальный жанр, символический собирательный образ родной земли (А. Бутов. Марий Эл. 1962; А. Пушков. Марий Эл. 1972; Б. Пушков. Марий Эл. Центральная часть триптиха «Песня о Родине». 1975–1980 и др.). Н. Н. Глухова фиксирует аналогичные процессы на уровне марийского фольклора того времени: «Впервые появляется понятие Родины , советской страны , но оно достаточно абстрактно, поскольку возможность проехать по ней невелика. Получение автономии вызвало появление понятия марийского края , но это понятие в рассмотренных нами песнях слабо выражено» [2, 58 ].
В изобразительном искусстве данный жанр был изобретен приезжими русскими художниками, по-своему увидевшими марийскую землю. Назовем его так, как называли сами мастера, писавшие полотна в этом жанре, – «Марий Эл». Марийское название территории проживания народа мари по тем временам выглядело достаточно экзотично, практически не использовалось в жизни, поскольку республика называлась тогда Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика (МАССР). Композиция включала в себя два архетипических образа – леса (древа) и женщины, которые для традиционной ментальности мари являются ключевыми. По культурологическому смыслу сюжет «Марий Эл» является репрезентацией культурного архетипа малой родины.
Лес выступает символом традиционного мира мари в работах, отражающих коллизию советской модернизации в эт-нонациональном регионе (И. Михайлин. У родника. Из серии «Сельские механизаторы». 1974; Беление холста. Из серии «Земля марийская». 1969). Композиция таких работ строится из двух частей, одна из которых показывает социалистические преобразования на селе, а другая – традиционный, уходящий в прошлое образ жизни народа. Так, на линогравюре И. Михайлина «У родника» треть листа занимает изображение леса и родника, каскадами текущего по деревянным колодам (мар. волак ). Первозданная природа как бы сдвинулась в сторону, уступая место напору преобразовательной деятельности современного человека с его технологиями. Большой колесный трактор Т-150К и гусеничный трактор ДТ-75М закрывают горизонт, за ними видны распаханные поля, животноводческий комплекс, высоковольтная линия электропередачи. Мир уходящей архаической культуры мари промаркирован не только лесом, но и фигурой женщины в национальной одежде.
Романтическое восприятие леса возникает на картинах первого в послевоенное время художника-мари З. Лаврентьева. Он не демонстрирует открыто сакральные для марийской культуры смыслы природных объектов, но в его образах прочитываются те значимые детали, за которыми всегда следил внимательный взгляд живущего в лесах народа и которые обросли мифологемами и ритуалами. Это, например, появление первоцветов в лесу, токовища тетеревов (З. Лаврентьев. Весна в лесу (Тетерева токуют. 1976). Токование тетерева начинается ранней весной, а наибольшую силу набирает в апреле, когда с полей сходит снег. Тетерева токуют преимущественно на открытых местах: лугах, лесных полянах и опушках. Охотничий сезон у марийцев проходил с июня по март. В этот период охотники иногда уходили вглубь леса на неделю или даже на несколько недель, жили в жилищах смолокуров или во временно поставленных шалашах. Охота у народа мари считалась важным промысловым занятием, поэтому к ней относились ответственно, готовились к ней тщательно. Во время промысла охотники произносили молитвы с целью задабривания богов и духов природы, прося у них богатую добычу и благодаря за получение этой добычи [4, 157].
Сказочно-магическое начало в образах леса проступает и на картинах неоромантика и страстного охотника С. Подмарева (Лесная сказка. 1979). Оригинально интерпретирует традиционные образы природы на своих панно мастер декоративно-прикладного творчества Г. Зыков (Ош куэ (Березушка-красотушка). 1980–1987 и др.), выводя их традиционное ценностное содержание. Тем не менее придуманные им орнаменты лишь поверхностно могут восприниматься как марийские.
Период 1980-х гг. отмечен своего рода «критическим реализмом» или, точнее, критическим символизмом в творчестве художников-мари, на смену ему в 1990-х гг. придут неомифологизм и этнофутуризм.
Иногда в советских реалистических пейзажах можно распознать священную рощу (А. Муржин. Родные просторы. 1987; И. Ямбердов. Дед Мирон. 1986). Священная роща, связанная с традиционной религией мари, также определяется исследователями как «национальный архетипический образ» [1, 26 ]. На исходе советской власти художники решаются откровенно поднимать тему марийской традиционной религии и молений в священных рощах (Р. Кириллов. Язычники. 1988), в искусстве зарождается неомифологизм (И. Ямбердов. Родник Чавайна. 1989). На картине И. Ям-бердова «Родник Чавайна», написанной уже в четко выраженной символистской стилистике, изображен старый еловый лес. Он предстает как священное место
Финно – угорский мир. 2016. № 4
с высокой елью как Мировой осью по композиционному центру полотна. На переднем плане из-под корней погибшего дерева выбивается родник. У родника сидит ушастая сова с раскинутыми крыльями: то ли приготовилась взлететь, то ли, наоборот, только что приземлилась. Небо как будто бы ночное, но все пронизано свечением, видимо, за елями в центре картины прячется луна. Картина производит впечатление происходящего в природе таинства.
К концу советского периода появляется особая семантика образа дерева и леса. В творчестве И. Ямбердова, И. Ефимова можно увидеть изображения уничтоженных, спиленных, а также просто засохших лесов и деревьев. Мрачные голые деревья на этих картинах без листьев и ветвей выглядят символом исчезающих культурных традиций этноса, и шире – самого народа (С. Евдокимов.
Дедушкина пасека. 1987; И. Ямбердов. Даль памяти. 1986; И. Ефимов. Шествие. 1986–1990 и др.). Период 1980-х гг. отмечен своего рода «критическим реализмом» или, точнее, критическим символизмом в творчестве художников-мари, на смену ему в 1990-х гг. придут неоми-фологизм и этнофутуризм.
Таким образом, в изобразительном искусстве марийского края 1950–1980-х гг. образ леса занимает значительное место. Он выступает символом традиционного мира мари и обязательным элементом возникшего в этот период локального жанра «Марий Эл», репрезентирующим архетип родины. За четыре десятилетия постсталинского советского периода формы художественной репрезентации образа леса как этнокультурного архетипа развиваются от реалистических (типических) к символическим, углубляется его семантика.
Список литературы Образ леса как ландшафтный архетип культуры мари в изобразительном искусстве 1950-1980-х гг
- Беляева, Т. Н. Архетипические образы в марийской драматургии второй половины ХХ -начала ХХI в.//Финно-угорский мир. -2014. -№ 2 (19). -С. 26-30.
- Глухова, Н. Н. Архетипы пространства в марийском фольклоре//Ежегодник финно-угорских исследований. -2014. -№ 1. -С. 55-59.
- Колчева, Э. М. Репрезентация этнокультурного пространства народа мари в советском изобразительном искусстве 1950-1980-х годов//Вестник Марийского государственного университета. Сер.: Исторические науки. Юридические науки. -2015. -№ 4. -С. 12-17.
- Марийцы: коллективная монография. -Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2013. -604 с.