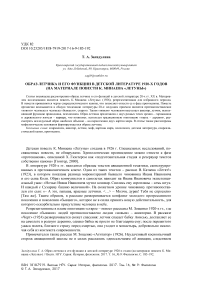Образ летчика и его функции в детской литературе 1920-х годов (на материале повести К. Минаева "Летуны")
Автор: Загидулина Татьяна Андреевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению образа летчика и его функций в детской литературе 20-х гг. ХХ в. Материалом исследования является повесть К. Минаева «Летуны» (1926), репрезентативная для избранного периода. В повести проявляются черты соцреалистического канона, что позволяет отнести ее к фазе протоканона. Повесть органично вписывается в общую тенденцию литературы 20-х: ведущим приемом является противопоставление «нового» человека и человека «бывшего», старого. Таким «новым» человеком выступает авиатор, летчик, выполняющий функцию проводника, психопомпа. Образ летчика представлен с двух разных точек зрения - горожанина и деревенского жителя - варвара, что позволяет, используя традиционную оппозицию «город - деревня», рассмотреть исследуемый образ наиболее объемно - на пересечении двух картин мира. В статье также рассмотрены мифологические основания формирующегося образа летчика.
Соцреализм, соцреалистический канон, авиатор, летчик, миф, картина мира, психопомп, детская литература, протоканон
Короткий адрес: https://sciup.org/147219850
IDR: 147219850 | УДК: 82 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-185-192
Текст научной статьи Образ летчика и его функции в детской литературе 1920-х годов (на материале повести К. Минаева "Летуны")
Детская повесть К. Минаева «Летуны» создана в 1926 г. Специальных исследований, посвященных повести, не обнаружено. Хронологически произведение можно отнести к фазе «протоканона», описанной Х. Гюнтером как «подготовительная стадия и резервуар текстов собственно канона» [Гюнтер, 2000].
В литературе 1920-х гг. находятся образцы текстов авиационной тематики, сконструированных в протоканоническом ключе. Один из таких текстов – рассказ В. Катаева «Летят!» (1923), в котором показана разница мировоззрений бывшего чиновника Ивана Ивановича и его сына Коли. Образ коммунистов в самолетах наводит на Ивана Ивановича экзистенциальный ужас: «Ночью Ивана Ивановича мучил кошмар. Снились ему аэропланы – семь штук. И каждый с Сухареву башню величиной». На сюжетном уровне чиновнику противопоставлен его сын: «– А это, папаша, красные летчики. <…> – Молчи, дурак! Тебя не спросили» [Там же]. Таким образом, в рассказе разворачивается конфликт молодого прогрессивного поколения и поколения «бывшего», которое не в силах принять новую действительность, для которого оскорбительно присутствие человека в небе.
Репрезентативны в плане оппозиции «старое – новое» рассказы М. Зощенко 1920-х гг., где поколение «бывших» людей противопоставлено людям «новым» – авиаторам. В рассказе «Черт» (1924) разворачивается сюжет спасения: летчик спасает бабку Анисью, доставляет ее на самолете в родную деревню, однако бабка не просто не благодарна ему; после пережитого ужаса полета, близкого страху перед смертью, она уходит в монастырь, добровольно исключая себя из контекста современности.
Примечателен также рассказ М. Зощенко «Агитатор» (1926). Неудачливый косноязычный сторож авиационной школы не в силах рассказать односельчанам об авиации, следствием
Загидуллина Т. А . Образ летчика и его функции в детской литературе 1920-х годов (на материале повести К. Минаева «Летуны») // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 9: Филология. С. 185–192.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 9: Филология © Т. А. Загидуллина, 2017
чего становится провал в деле сбора средств на строительство самолета: в картине мира сторожа и его земляков отсутствует какое-либо представление об авиации, поэтому не происходит осознания государственной важности этого дела. Мир прогресса и мир «бывших» людей находятся на разных идеологических полюсах. К середине 1930-х гг. разница между восприятием летчика и обывателя усилится, что наиболее ярко продемонстрировано в рассказе «Опасные связи» (1936) М. Зощенко, где обыватель лишается права даже на продолжение рода.
В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (1931) сохраняется тенденция противопоставления авиатора и обывателя. Показателен в этом контексте образ летчика Севрюго-ва. Авиатор пропал, выполняя задание Осоавиахима, после чего его соседи по коммунальной квартире начинают активно делить его жилплощадь, болезненно воспринимая сам род деятельности Севрюгова. Дворик Никита Пряхин (профессия обладает символическим наполнением – дворник близок к земле) радостно восклицает: «– Пропал наш квартирант! <…> А не летай, не летай. Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить» [Ильф, Петров, 2012. С. 126].
Противопоставление «летающих» и «нелетающих» людей наметилось еще раньше. В очерке А. И. Куприна «Люди-птицы» (1917) повествователь противопоставляет себя и своих современников новым людям: «Да, это новая, совсем новая, странная порода людей, появившаяся на свет божий почти вчера, почти на наших глазах» [Куприн, 1917] 1; «в них много чего-то от свободных и сильных птиц – в этих смелых, живых и гордых людях. Мне кажется, что у них и сердце горячее, и кровь краснее, и легкие шире, чем у их земных братьев» [Там же]. А. И. Куприн делает акцент на том, что эти новые люди по своим природным характеристикам принципиально отличны от всех остальных, и это важно в контексте данного исследования, потому что у А. И. Куприна образы статичны, динамики роста нет, есть четкая оппозиция – люди и сверхлюди. Эта тенденция получит развитие в другом очерке писателя с тем же названием – «Люди-птицы» (1930): «Летчики по призванию – это совсем, совсем необыкновенные люди; они ничего не имеют общего с громадной толпой человечества» [Куприн, 2006. С. 76]. Во втором тексте противопоставление выражено более явно и четко (уже не братья, а «совсем необыкновенные люди»), что свидетельствует об углублении пропасти между авиатором и обычным человеком. Здесь авиатор назван «избранником Божиим», проявляется мотив избранности.
Статика образов летчика и обывателя в классической парадигме сменяется динамикой становления нового человека в парадигме неклассической. Особенно примечательно, что эта динамика проявляется и в детской литературе, тематика и сюжетные схемы которой санкционировались государством 2.
В 1920-е гг. детская литература претерпевает значительные изменения по сравнению литературой досоветского периода. Перед ней ставятся новые задачи, топика и мотивы трансформируются. «…Детская литература обязана обеспечивать детей понятиями и образами, которые помогли бы им стать сознательными коммунистами», – отмечает Бен Хеллман в книге «Сказка и быль: история русской детской литературы» [2016. С. 417]. Б. Хеллман приводит основные положение стратегии создания новой детской литературы: «широкие технические знания, четкое понимание социальных задач и интернациональные взгляды» [Там же. С. 421]. Таким образом, в детской литературе должны были подниматься темы социально значимые, она должна была сближаться с литературой взрослой, дидактизм теперь был ориентирован не на общечеловеческие, а, в первую очередь, на социалистические ценности («Ёж-большевик» П. Яковлева, 1925; «Бунт кукол» С. Городецкого, 1924). Одним из наиболее репрезентативных текстов детской литературы авиационной тематики является повесть К. Минаева «Летуны».
Основа сюжета повести – побег мальчика Кирюхи из деревни и его работа на заводе, соответственно, счастливая жизнь, полная созидательного труда и планов на будущее, связанных с поступлением в фабзавуч и вступлением в партию.
Подобно роману М. Горького «Мать» и драме Л. Сейфуллиной «Виринея», «Летуны» относятся к воспитательной литературе, а путь главного героя – путь обретения сознательности. В повести также присутствует топос завода, что на мотивном уровне может связывать ее с производственным романом фазы протоканона (например, романом «Цемент» Ф. Гладкова, также симптоматичным и репрезентативным именно для этого этапа развития соцреализма [Гюнтер, 2000]).
Образ будущего счастья (и счастья в будущем), по дороге к которому герой делает первые шаги, обладает чертами художественной утопии. Н. В. Ковтун характеризует период протоканона в связи с утопическим текстом русской литературы: «В эволюции соцреалистической утопии с определенной долей условности выделяют несколько этапов. Первый связан с энту-зиастской эйфорической атмосферой 20-х годов, когда происходит накопление идей, образов, определивших контуры будущего “пролетарского рая” и пути их достижения» [Ковтун, 2014. С. 81].
Несмотря на то что хронологически текст не вписывается в рамки непосредственно канона, он пронизан каноничными схемами. Наиболее репрезентативными в данном случае будут механизмы конструирования пространства.
Сюжет побега подразумевает две точки: в повести это город и деревня. Именно эта традиционная культурная оппозиция (через которую реализуется другая – «старое – новое») станет идеологической основой повествования. Город и его жители (носители городской, прогрессивной культуры) представлены образами авиаторов. Даже городские дети приобщены к культуре полетов. Отец-летчик берет сына Гору в рейс. Примечательно, что цель рейса просветительская: «Мы развозили литературу, – рассказывают гости-летуны» [Минаев, 1926]. Происходит небольшая поломка, чтобы ее исправить, авиаторам приходится несколько дней прожить в деревне. Маленький Гора общается с деревенскими мальчиками, один их которых, Кирюха, настолько вдохновляется идеями прогресса, что осуществляет побег. Дома его признают мертвым, но читатель видит, как счастлив герой, работая на заводе.
Начать анализ функционирования рассматриваемой оппозиции следует с рассмотрения репрезентации образа города.
Обратим внимание на то, что город (с заводами и домами-коммунами), о котором говорится в повести, Москва – столица СССР. Образы авиаторов и авиационный сюжет вообще обладают в данном тексте, помимо прочего, функцией структурирования пространства, летчики причастны к пространству столицы, благодаря им причастным к этому центру становится и Гора. Город обладает чертами сакрального места, а путешествие к нему приобретает признаки паломничества. «Сакральный центр избранного пространства – Кремль, от кремлевских стен разбегаются лучами московские улицы», – говорит Н. В. Ковтун об идее «паломнического» путешествия к идеологическому центру государства [2014. С. 99]. Е. Доб-ренко пишет о том, что москвоцентризм советской культуры окончательно оформился к середине 1930-х гг. [2007. С. 467], однако повесть К. Минаева демонстрирует его уже в середине 1920-х. Москвоцентризм повести симптоматичен для культуры 2 (по определению В. Паперного [2011]) с перемещением ценностей в центр – столицу, которая характерна для соцреализма фазы канона.
Деревня в данной повести представлена не как пространство, где протекает реальная жизнь (настоящая жизнь, подразумевающая будущее, напротив, – в городе), а как пространство временное, населенное непросвещенными, отсталыми людьми, не искушенными в вопросах прогресса.
Именно глазами представителя деревни – варвара, читатель видит авиатора и аэроплан: «Высокий человек, как человек. Говорит просто, не страшный. Только одежа больно у него чудная. Вся кожаная, шапка с ушами и на лбу стекла». «Чудная одежа»; «Вон вылезают из ящика черные люди. Двое. На шапках большие очки блестят. В рукавицах. Обходят чудо-юдо» [Минаев, 1926]. Образ ящика и черных людей отсылает к образу гроба, человек, вылезающий из ящика, приобретает черты потустороннего существа.
Для деревенского жителя обыденная одежда летчика, которая известна каждому москвичу («Папу на плакатах рисовали. Расклеивали по всему городу» [Минаев, 1926]), нова и диковинна. Описывая аэроплан, автор использует традиционные для литературы 20-х зооморфные метафоры: «На солнце больно глядеть, наставили руки к глазам, правда видно: большая серая птица летит» [Там же]. Жители деревни не включены в контекст городской передовой культуры, следовательно, не могут быть полноценными членами нового общества.
В повести намечена трансформация функции авиации до и после образования СССР (до и после начали индустриализации): «… – да… аэроплант это такое дело… Оченно их много было на фронте…<…> Бывало, как стая вороньев кружит над твоей головой. <…> А сверху бомбочки. Трах… Трах…» [Там же] – истребительная функция авиации времен Первой мировой войны сменяется функцией просветительской (распространение литературы), подобно тому, как намного позже появится идея о «мирном атоме». Тем не менее милитаристские образы будут актуализироваться только в прошлом – настоящее овеяно мирными мотивами строительства, производства и просвещения: «– Знаю. От газов люди умирают. Нам в школе рассказывали, как аэропланы бомбы с удушливыми газами сбрасывали. Картины такие показывали. Нужно маску надевать. У моего папы есть маска» [Там же]. То обстоятельство, что у папы есть маска, говорит о способности его обороняться, а не нападать. Слова о настоящем авиации звучат из уст знающего городского жителя, ребенка, являющегося символизацией будущего. Прошлое описывается деревенскими мужиками – людьми взрослыми, крестьянами, транслирующими мировоззрение предыдущей эпохи – эпохи империалистических войн.
Сам повествователь, включенный в городской контекст, прекрасно знает, кто такие летчики и что такое самолет: «У Горы отец авиатор. В кожаных сапогах, брюках. Тужурка с меховым воротником. Шапка с ушами» [Там же].
Значимый для исследования образа авиатора аспект оппозиции «город – деревня» – отношение к религии и Богу. Деревенские мальчики все носят крестики: «Ты какой белый… – проговорил Филин, разглядывая Гору, – а что у тебя креста-то нет. Гора оглядел ребят. У них у всех на шее медные и костяные кресты на шнурках. – Мы не веруем. У нас в городе Бога нет, – ответил Гора, – и в школе нас так учат» [Там же], а Гора, напротив, сам говорит о том, что его представление о мире – продукт современного образования, именно школа (коллективом – коллективу – «нас» «учат») как оплот государственной идеологии формирует образ мысли молодого советского гражданина.
Для деревенских, напротив, Бог существует, мать Кирюхи с недоверием слушает рассказы неверующего Горы. Полет для них – прежде всего полет к Богу: «Пашка Кривой смеется. – Скоро к Богу в гости полетят. Право слово! – Скажи пожалуйста! – качают головой бабы» [Там же]. К подобным путешествиям крестьяне относятся с иронией и недоверием: в 20-е еще сильна религиозная культурная парадигма, несмотря на богоборческую пропаганду. Совершенно естественно, что сама идея полета к Богу в пространстве повести сопряжена в представлении жителей деревни с грехом (гордыней) и смертью.
Самолет в сознании деревенских жителей – это «чудо-юдо». Образ «чуда-юда» носит фольклорный характер, причем имеет явно негативные коннотации – это существо потустороннего мира, неоднократно появляющееся в былинах, сказках («Иван-крестьянский сын и Чудо-юдо» и др.).
Образ фольклорного Чуда-юда подробно описан в труде Б. А. Рыбакова «Язычество древних славян»: «…его называют то Чудом-Юдом, то Змеем, то заимствованным из былин Идолищем. Когда оно приближается к месту своей гибели, то “гром гремит, земля дрожит”». <…> Чудовище всегда многоглаво. Нередко сказка упоминает хоботы, а самого Змея называет “хоботистым” <…> Чудо-Юдо своих противников не кусает, не когтит, а “вбивает в землю” или бьет хоботом (“жогнул своим хоботом”) <…> часто герой распарывает брюхо чудищу», также исследователь указывает, что «крылатость» чудища является более поздним атрибутом [2002. С. 124].
Таким образом, в сознании жителя деревни аэроплан является хтоническим существом, что согласуется с сюжетом: после побега Кирюхи на самолете в деревне решают, что он погиб: «Значит утоп. Больше некуда ему деваться. И не выдержала мать. Позвала грамотную Дуньку и попросила в поминание переписать “отрока Кирилла со здравья на упокой”». Ге- рой-утопленник на мотивном уровне может быть сопряжен с образом чуда-юда. А. Н. Афанасьев связывает чудовище с Морским царем, на место которого оно иногда становится [1995. С. 112].
Учитывая, что «чудо-юдо» – самолет прилетает из города, можно сделать вывод, что пространство города маркируется деревенскими жителями как нечистое, адское, как подземный мир, пространство смерти.
Таким образом, путешествие мальчика Кирюхи на аэроплане следует трактовать как амбивалентный переход – смерть в одном пространстве (в деревне) 3 и рождение в другом (в городе). Летчики в этом переходе выполняют функцию проводников. В концепции К. Юнга образ проводника обладает амбивалентной природой: он препровождает и умершего в царство мертвых, и новорожденного в мир.
Процесс извлечения Кирюхи из птицы-аэроплана схож с процессом родов: «Вытащил на свет, стряхнул, так и ахнул. – Кирюшка! Весь измазанный, испуганный глядел на него парнишка». А. С. Байбурин утверждает, что «в ритуальных действиях и соответствующих текстах постоянно обыгрывается аналогия между родами и трудным путем ребенка из чужого мира в мир людей» [1993. С. 94]. В качестве примера исследователь приводит объяснение появления на свет ребенка, даваемое в Полесье: аист бросает ребенка в дымоход. Так происходит и в повести: «На окраине, за заставой дымит большими трубами завод Добролета.<…> Прямо на полу, на корточках кудрявый подросток старательно обтирает паклей части машин» [Минаев, 1926].
А. С. Байбурин отмечает также параллелизм между родами и путешествием, сходство вариантов пути характеризуется однонаправленностью и необратимостью. Примечательно, что «путешествующий», ребенок: «перемещается внутрь (в центр) освоенного человеком мира» [1993. С. 95]. Кирюха, осуществив с помощью аэроплана переход, помещается в пространство завода – храм производительного труда, а также обретает новую семью – живет в доме-коммуне.
Границы нового мира, центрируемого дважды – как Москва и как завод, – для консервативных по идеологии деревенских жителей непроницаемы. Мать Кирюхи не может остаться в этом пространстве, поэтому едет обратно умирать: «Умирать поеду к себе на родину, – говорила она. – Куда уж мне, старухе… Это уж вам…» [Минаев, 1926]. Таким образом, деревня в контексте данного повествования воспринимается как пространство смерти, не жизни, что символизирует гибель традиционного уклада, стремление автора показать его ущербность по сравнению с новым образом жизни. Женское традиционное (образ матери Кирюхи, оставшейся в деревне), иррациональное, связываемое с кровными узами, меняется на маскулинное, рациональное, которое должно царствовать в новом мире: «В большей части литературы, появившейся между 1917 и 1929 годами, силы прогресса и сознательности представлены мужчинами, в то время как женщины играют незавидную роль аллегорического воплощения буржуазности» [Боренстайн, 2001. С. 108]. В новом постреволюционном мире женщина становится просто не нужна. На практике эта идеологема реализовалась в риторике освобождения женщины от домашнего труда, однако автор данного текста решает вопрос присутствия женщины в новом мире более радикально: мать Кирюхи едет «умирать» в деревню. Заводская «жизнь» в новом месте противопоставляется деревенской «нежизни» места старого, однако на самом деле счастье в механизированном труде симптоматично для становления соцреалистического героя: «…движение к центру, вершине сопровождается постепенным “затвердеванием” героя, утратой им последних признаков человеческого» [Ковтун, 2014. С. 9].
Таким образом, летчик обладает функцией проводника, с одной стороны, и просветителя, с другой. Образ проводника в учении К. Юнга традиционно трактуется как психопомп (водитель души) [Юнг, 1991]. В мифологии психопомп – это прозвище бога Гермеса, доставлявшего души умерших в царство мертвых Аид, в психологии распространена юнгианская трактовка: «…психический фактор, являющийся связующим звеном между бессознательными содержаниями и сознанием; очень часто персонифицируется в образе мудрого старца или старухи, иногда – помогающего животного, например Серого Волка» [Зеленский, 2002]. В христианской традиции предназначение психопомпа связывается с предназначением ангелов.
Функция полностью реализована в тексте повести. Летчик – проводник между миром города и миром деревни, притом сам он к миру города относится лишь отчасти – его портреты расклеены в городе, но центром трудовой столичной жизни всё же является завод, к которому авиатор имеет опосредованное отношение, а центром социальной – ячейка, партия. Заметим, что летчик – беспартийный, сын называет его «красный летчик». Иначе говоря, летчик как проводник находится как бы выше пространства города, он присутствует там лишь в виде множества изображений, репрезентаций.
В повести детально описано столкновение двух картин мира. То, что является смертью в одной, будет рождением и обретением новой жизни в другой. Летчик в этом плане является не просто проводником-просветителем, маскулинным символом нового мира (как и авиация вообще). Отметим, что завод, на котором работает подросток, производит самолеты – «Готовит этот черный огромный завод стальных друзей – советские аэропланы» [Минаев, 1926].
Список литературы Образ летчика и его функции в детской литературе 1920-х годов (на материале повести К. Минаева "Летуны")
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: В 3 т. М.: Современный писатель, 1995. Т. 2. 399 с.
- Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 240 с.
- Боренстайн Э. Женоубийцы. Жертвоприношение женщины и мужское товарищество в ранней советской прозе // Континент. 2001. № 108. URL: http://magazines.russ.ru/continent/ 2001/108/bor.html (дата обращения 17.04.2017).
- Гюнтер Х. Жизненные фазы соцреалистического канона // Соцреалистический канон: Сб. ст. / Под ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. М.: Академический Проект, 2000. С. 282-287.
- Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 592 с.
- Зеленский В. Психопомп // Словарь аналитической психологии. 2002. URL: http://www. goldbiblioteca.ru/online_psihologiya/online_psistr6/594.ph (дата обращения 17.04.2017).
- Ковтун Н. В. Русская литературная утопия второй половины XX века. М.: ФЛИНТА, 2014. 353 с.
- Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 408 с.
- Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.: София; Гелиос, 2002. 586 с.
- Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 560 с.
- Юнг К. Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. 300 с.
- Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. Харьков: Фолио, 2012. 336 c.
- Куприн А. И. Люди-птицы. 1917. URL: http://liv.piramidin.com/belas/Kuprin/liudi-ptitsy2.htm (дата обращения 17.04.2017).
- А. И. Люди-птицы // Поэзия и проза золотого века авиации. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. С. 75-77.
- Минаев К. Летуны. 1926. URL: https://www.litmir.me/br/?b=271245 (дата обращения 17.04.2017).