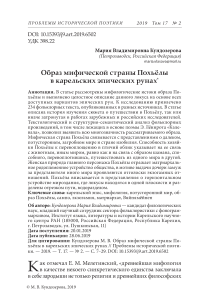Образ мифической страны Похьёлы в карельских эпических рунах
Автор: Кундозерова Мария Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.17, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены мифологические истоки образа Похьёлы и выполнено целостное описание данного локуса на основе всех доступных вариантов эпических рун. К исследованию привлечено 234 фольклорных текста, опубликованных в разных источниках. В статье описана история изучения сюжета о путешествии в Похьёлу, так или иначе затронутая в работах зарубежных и российских исследователей. Текстологический и структурно-семантический анализ фольклорных произведений, в том числе лежащих в основе поэмы Э. Лённрота «Калевала», позволил выявить всю многозначность рассматриваемого образа. Мифическая страна Похьёла связывается с представлениями о далеком, потустороннем, загробном мире и стране изобилия. Способность хозяйки Похьёлы к перевоплощению в птичий облик указывает на ее связь с животным, иным миром, равно как и на связь с образом шамана, способного, перевоплотившись, путешествовать из одного мира в другой. Женская природа главного персонажа Похьёлы отражает матриархальное родоплеменное устройство общества, в мотиве выдачи дочери замуж за представителя иного мира проявляются отголоски экзогамных отношений. Похьёла вписывается в представления о горизонтальном устройстве мироздания, где локусы находятся в одной плоскости и разделены отрезком пути, водоразделом.
Карельский эпос, мифология, потусторонний мир, образ похьёлы, сампо, экзогамия, матриархат, вяйнямёйнен
Короткий адрес: https://sciup.org/147226207
IDR: 147226207 | УДК: 398.22 | DOI: 10.15393/j9.art.2019.6502
Текст научной статьи Образ мифической страны Похьёлы в карельских эпических рунах
Как отмечал Е. М. Мелетинский, «древнейшая мифология в качестве некоего синкретического единства заключала в себе зародыши не только религии и древнейших философских представлений (формировавшихся, правда, в процессе преодоления мифологических истоков), но также искусства, прежде всего — словесного» [Мелетинский, 2000: 7]. Продуктами словесного, поэтического творчества в равной степени являются как литература, так и фольклор, имеющие ряд характерных общих черт и различий. По мнению В. Я. Проппа, фольклористика в изучении фольклора как явления литературного порядка, «в своих описательных элементах — наука литературоведческая». При этом «фольклор обладает совершенно особой, специфической для него поэтикой, отличной от поэтики литературных произведений. Изучение этой поэтики вскроет необычайные художественные красоты, заложенные в фольклоре» [Пропп, 1976: 20].
Образ страны Похьёлы широко известен благодаря эпической поэме Элиаса Лённрота «Калевала», полная версия которой вышла в 1849 г. По замыслу автора, Похьёла становится основной страной-антагонистом Калевалы, в которой живут главные действующие лица поэмы. Герои неоднократно отправляются с разными целями из Калевалы в Похьёлу, и каждое путешествие, равно как и сама страна, описывается иначе. Это объясняется тем, что Лённрот объединил в образе Похьёлы представления о разных мифических локусах из народной эпической и заклинательной поэзии. Похьёла в поэме «Калевала» является собирательным образом, созданным на основе таких мифических стран, как Похьёла, Пяйвёля, Хийтола, Тапиола и др. При этом многие детали из народной поэзии остались неиспользованными автором поэмы. Данная статья посвящена исследованию мифологических истоков образа Похьёлы и ее целостному описанию на основе всей совокупности текстов карельских народных эпических рун, в том числе лежащих в основе поэмы «Калевала». При этом сама поэма не является предметом исследования, изучаются только фольклорные тексты.
Материалом исследования послужили образцы эпических рун цикла о сампо (Sampojakso) (138 вариантов) и «Состязание в сватовстве» (Kilpakosinta) (96 вариантов), записанные от карелов в XIX–XX вв. и опубликованные в разных источниках1.
Карельские народные руны содержат повествования о путешествиях эпических героев с разными целями в иные локусы. Герои могут оказываться в чужих мирах ненамеренно, и во многих случаях они являются нежеланными гостями. Одним из самых известных и загадочных топосов, в который отправляются (или оказываются по воле случая) эпические герои, является Похьёла. Именно в ней происходят многие значимые события карельского эпоса. Здесь сватают невест; здесь создается волшебное сампо — нескончаемый источник муки, соли, денег и всяческих благ, приносящий процветание, пусть и краткосрочное, жителям страны; сюда снаряжают морской поход с целью похищения сампо. Попытка выкрасть его из Похьёлы заканчивается неудачей: во время морского сражения сампо разбивается на части и тонет в море.
Сюжет, повествующий о посещении Похьёлы героями, о создании и похищении сампо, лежит в основе цикла рун, который исполнялся рунопевцами в виде одного целого произведения. Согласно текстам, Лаппалайнен, таящий давнюю злобу на Вяйнямёйнена, подстреливает его коня, и Вяйнямёй-нен падает в море, где продолжительное время плавает чуркой еловой / бревном сосновым, при этом создавая рельеф морского дна, а также мир из яйца, снесенного ему птицей на колено. Далее герой прибивается волной к берегу Похьёлы, хозяйка которой соглашается помочь страннику вернуться домой, если тот сможет выковать сампо. Вяйнямёйнен (в вариантах — кузнец Илмаринен, посланный Вяйнямёйненом вместо себя обманом) выковывает сампо и отправляется домой, прихватив с собой и его, и обещанную за работу невесту. Хозяйка Похьёлы пускается в погоню за похитителем, настигает корабль, где и происходит знаменитое сражение, в результате которого сампо гибнет. Согласно другой версии, героям не дает покоя мысль, что с появлением в Похьёле сампо этот темный, северный край стал жить в достатке и изобилии, и они отправляются в морской поход к берегам Похьёлы с целью выкрасть сампо. Еще одна версия карельских эпических рун повествует о том, как герои — Вяйнямёйнен и Илмаринен — наперегонки отправляются в Похьёлу сватать невесту, дочь хозяйки Похьёлы. При этом изготовление сампо является одним из брачных испытаний жениха. Данный сюжет, названный «Состязание в сватовстве», исполнялся рунопевцами в качестве отдельной руны.
Образ Похьёлы, суровой, мрачной страны, противостоящей «этому» миру, в котором живут эпические герои, не раз становился объектом рассмотрения финляндских исследователей. Как отмечала А.-Л. Сиикала, «всех, кто пытался объяснить образ Похьёлы, можно поделить на два фронта: создателей истории и открывателей мифов» [Siikala, 1992: 132]. Представители исторического направления видели в сюжетах о путешествии в Похьёлу отголоски реальных исторических событий и в своих работах искали обоснование для соотнесения Похьёлы с той или иной реальной географической местностью (например, с Лапландией [Friis: 220], островом Готланд [Krohn, 1918: 114, 128], Южной Остроботнией [Luukko: 132], [Harva, 1947: 118] и др.). Недостатки исторического метода, при котором принимались во внимание выборочные аспекты содержания рун, а другие игнорировались, были преодолены дальнейшими научными изысканиями. Понимание карельского эпоса как совокупности мифологических повествований, а Похьёлы как мифической страны, не имеющей точных координат на современной карте, вышло на первый план и сегодня является преобладающей точкой зрения как в зарубежной, так и в отечественной фольклористике. Позиций мифологического направления в изучении карельских рун придерживается и автор предлагаемой статьи.
Качественному повороту в понимании мифологической основы образа Похьёлы послужило выявление соответствия данного образа широким мировым представлениям о загробном, потустороннем мире [Siikala, 1986: 84]. Еще на заре историко-географического изучения рунической поэзии Ю. Крон писал о мифологическом характере карело-финского эпоса, в том числе образа Похьёлы, и видел параллели в мифах других народов [Krohn, 1885: 410–428]. Вслед за ним отражение международных верований о загробном мире в образе Похьёлы отмечали У. Харва [Harva, 1947: 114–129] и И. Кемппинен [Kemppinen]. В работе финского языковеда Е. Н. Сетяля, который одним из первых выступил с критикой исторического и историко-географического подходов в изучении рунической поэзии, Похьёла интерпретируется в духе астральной мифологии как обитель / дом полярной звезды, которая отождествляется с сампо — мировым столпом, локализованным в Похьёле [Setälä: 536]. Данное положение было, в свою очередь, также подвергнуто критике [Okkonen: 37– 39]. Сопоставительному анализу царства Похьёлы калевальских рун и страны троллей норвежских саг посвящена статья Н. Лида [Lid]. Выявлению представлений о «близком» и «далеком» загробном мире в образе Похьёлы и других мифических стран посвящена глава монографии А.-Л. Сиикала «Финский шаманизм» [Siikala, 1992: 132–152]. Образ Похьёлы, реконструирующийся на основе вокнаволокских рун, изучается в числе других образов и сюжетов в монографическом исследовании Л. Таркка [Tarkka, 2005: 301–307]. Отметим, что Похьёла так или иначе попадает в область рассмотрения в многочисленных работах, посвященных циклу рун о сампо и разгадке образа сампо [Krohn, 1903: 217–232], [Kuusi], [Harva, 1943], [Tarkka, 2012], [Frog], [Anttonen, 2002, 2012]. В российской фольклористике царству Похьёлы уделено крайне мало внимания. В работе Э. Киуру «Тема добывания жены в эпических рунах» проанализированы некоторые детали образа Похьёлы и ее жителей в руне «Состязание в сватовстве» (по определению Киуру «Сватовство в Похьёле») [Киуру: 50–54] и др. Общие черты мифической страны Похьёлы, характерной более для поэзии северных карелов, с мифической страной Хийтолой южнокарельских рун описываются в монографическом исследовании В. П. Мироновой, посвященном сюжету о сватовстве в Хий-толе [Миронова: 94–103]. Довольно общие замечания относительно Похьёлы, ее соответствия другим топосам, потустороннему миру можно встретить и в других работах [Мелетин-ский, 1963: 95–156], [Карху: 83–84], [Иванова: 55]. Данная статья станет первым шагом в российской фольклористике по обобщению представлений о мифической стране Похьёле и ее месте в карельской картине мира.
Карельский эпос является одним из архаичных эпосов мира, в основе которого лежат мифы космогонического характера, а также мифы о путешествиях в иные миры с разными целями, овеянные колдовством и магией. Наиболее популярным сюжетом карельских рун является путешествие героя в чужой, неизведанный локус, хозяева которого подвергают гостя всяческим испытаниям. Наряду с другими мифическими странами, эпические герои карельского эпоса чаще всего отправляются в Похьёлу. Горизонтальный вектор движения от места проживания героя к дальнему локусу соответствует «центробежной» модели мифа, которую, как отмечает С. Ю. Неклюдов, архаический эпос и воспроизводит: «…изначально герой находится (родится, создан) в центре мира, который, как и в мифе, космичен, а не географичен; этническое, единственным воплощением которого является род и племя героя, интерпретируется как подлинно человеческое и противостоит демонической периферии, смиряемой и очищаемой богатырем» [Неклюдов: 119]. Потусторонний характер Похьёлы, противопоставленной изначальному миру эпического героя, выявляется уже при анализе способов попадания в нее путника, описание которых заслуживает отдельной публикации. Отметим, что согласно текстам рун, попасть в Похьёлу можно по воде (дрейфуя в открытом пространстве «бревном сосновым» либо на лодке / челноке), по суше (верхом на животном, на санях) и по воздуху (на «лодке ветра»). Наиболее распространенным способом попадания в Похьёлу является преодоление водной преграды, осмысляемой традиционным рубежом между тем и этим мирами.
Описание Похьёлы, встречающееся в рунах на рассматриваемые сюжеты, будь то скитания Вяйнямёйнена по морским просторам или поездка с целью похитить сампо либо сосватать невесту, укладывается в следующую формулу, согласно которой герои попадают
“Pimieh om Pohjoil’ahe, Tarkkahan Tapiolahe, Miehien šyöjähän kylähe, Urohon upottajahe” (SKVR I 1 58: 85–88)3.
«В темную Похьёлу,
В мудрую Тапиолу,
В деревню, пожирающую мужей, Топящую героев»2
Похьёла находится в дальнем конце Севера (Pohjom pitkähä perähä — SKVR I1 4: 70), в безымянном заливе (Lahteh nimettömähe, n’imen t’ietämättömähe — SKVR I1 62: 71–72).
Само слово «Похьёла» (Pohjola, в вариантах Pohjo, Pohja, Pohjoni, Pohjani) означает «север, северный край» [SSA: 383] и, как и лексема, обозначающая север как часть света (pohjoinen), является производным от лексемы pohja, в круг значений которой входит «дно, основание, конец чего-либо, север» [SSA: 383]. Известно, что у северных народов неизведанный потусторонний мир ассоциировался с самым севером, низом, дном, мраком и холодом, что отразилось и в карельских рунах. Похьёла представляется темным (pimie, pimettö), холодным (kylmä), мрачным (summa, suma), плохим местом (paha paikka). Она противостоит тому краю, откуда герой прибыл. Это чужая земля, на которой герою все незнакомо:
“Jouvuim pois omilta mailta, «Унесло из родных мест
Mailla muilla vierahilla, На чужие земли,
Äkki ouvoilla ovilla. К совершенно незнакомым дверям.
En tunne tupia näitä, Не знаю этих домов,
Ošoa en ovissa käyvä” В двери войти не умею»
(SKVR I 1 58: 95–99).
Известная пословица, произнесенная Вяйнямёйненом по прибытии в Похьёлу, подчеркивает противопоставление свое—чужое:
|
“Paremp’ ois omalla moalla Juuva vettä ropehesta, Ennen kuin moalla vierahalla |
«Лучше на своей земле Пить воду из туеска, Чем на чужой земле |
|
Juuva tuopista olutta” (SKVR I 1 38a: 75–78) |
Пить из кружки пиво» |
Под влиянием христианской доктрины Похьёла представляется также «местами без попов, землями некрещеными» (paikat papittomat, muat ristimättömät — SKVR I1 78: 39–40), владениями черта (Pirun pitkä perä — SKVR I1 105: 39), тогда как своя сторона — «земли крещеные, места поповские» (muat ristityt, paikat papilliset — SKVR I1 97: 106–107).
Согласно большинству карельских рун, Похьёла — это деревня, маркированная знаками иного мира: это вечная обитель (ikišija, ikikylä), пожирающая и топящая героев; многие в нее отправились, но никто не вернулся. В некоторых вариантах Похьёла отождествляется с островом, на который выбирается Вяйнямёйнен после скитания по водам:
“Šoarehe šelällisehe, Mantereh on puuttomahe (SKVR I 1 58: 91–92).
«На остров средь моря, На сушу безлесую»
На соотнесенность Похьёлы с островом часто указывает и определение собаки как собаки острова, которая своим лаем оповещает о прибытии путника, например:
“Siitä haukku soaren halli, «Залаяла острова собака,
Soaren lukki luskutteli” Острова пес загавкал»
(SKVR I 1 21: 83–84).
Образ острова часто встречается в карельской рунической поэзии. На острове птица-демиург сносит яйца, служащие материалом для сотворения Вселенной; на острове посреди моря может произрастать большой дуб — символ мирового древа; на острове живет кузнец Илмаринен, участвующий вместе с Вяйнямёйненом в состязании при сватовстве в По-хьёле; на далеком острове с девами скрывается провинившийся герой; на острове / мысу может происходить дележ сампо после его похищения. Помимо своей сакральной нагрузки, связанной с представлениями о первой земле и маркированием центра Вселенной, остров осознается как место жительства или временного пребывания героев эпоса. Соотнесение же Похьёлы, имеющей признаки потустороннего мира, с островом может основываться на представлениях о локализации иного мира на куске суши за водной преградой, что отразилось в древнем обычае карелов устраивать места захоронений на островах. Представления о безлесости острова Похьёлы может, с одной стороны, рождаться в противопоставлении своих, плодородных земель скудным и безлесым землям чужой стороны. С другой стороны, безлесость, равно как и безымянность, является признаком потусторонности упоминаемого локуса. Песочные или глиняные гряды (hietaharjut, šaviharjut), которые видят путники, приближающиеся к Похьёле, порождают в сознании образ пустынного, необитаемого пространства иного мира.
Как отмечает Э. Киуру, в образе Похьёлы соединяются как более архаические черты, указывающие на принадлежность Похьёлы потустороннему пространству (нахождение на острове), так и более новые, несущие на себе печать средневековья [Киуру: 50]. Речь идет об отождествлении Похьёлы с городом / крепостью на основе определения, принадлежащего сторожевой собаке. В текстах встречается указание, что собака По-хьёлы, уведомляющая своим лаем о прибытии гостей, не только островная, но иногда и «крепостная / городская» (linnan > linna, кар. «крепость, город»), например:
Sillon haukku suuri koira,
«Тогда залаяла большая собака,
Linnan luppa luskutteli” Городская вислоухая загавкала» (SKVR I 1 469: 155–156).
Сияющая каменная крепость / город упоминается и в одной из поздних записей наряду с воротами Похьё:
“Jo näkyypi Pohjon portti, «Уже видны ворота Похьё, Kivilinna kuumottaupi” Каменный город светится» (КЭП 60: 133–134)4.
Единожды в текстах упоминается остров Похьё, сверкающий золотом:
“Jo näkyvi Pohjon soari, «Уже виден остров Похьё, Soari kulta kuumottavi” Остров золотом светится» (SKVR I 1 409: 24–25).
Золотой отблеск, сияние переносится и на ворота, которые видят герои, приближаясь к берегам Похьёлы:
“Portit Pohjolan näkyypi, Paistaapi pahat saranat, Pahan ukset ulvottaapi” (SKVR I 1 54: 229–231).
«Ворота Похьёлы видны, Сияют плохие петли (дверные) Чертовы двери воют»
Как отмечает Н. А. Криничная, «ворота служат метонимическим эквивалентом стены, знаком-символом огражденного пространства. <…> Одновременно ворота — знак “замыкания” и “размыкания миров”, знак коммуникации между бытием и небытием» [Криничная: 923]. Наличие ворот позволяет говорить о Похьёле как об огражденном месте, о локусе, имеющем пределы и границы. Сияющий золотом остров, горящие / сияющие, ассоциирующиеся с золотом петли на воротах выдают принадлежность Похьёлы иному измерению, ибо «золотая окраска есть печать иного царства» [Пропп, 1986: 285], а «ассоциация золота со светом, светлостью, огнем идет из языческой древности» [Криничная: 922].
Образ воющих ворот, в свою очередь, может складываться из образа ворот и собак-стражников, своим лаем / воем предупреждающих о прибытии путников.
Несмотря на то, что Похьёла в рунах упоминается как деревня, в орбиту повествования входит всего лишь один дом / двор с домом, хозяйственными постройками и полями, принадлежащими хозяйке Похьёлы. Это маленькая избушка (pieni pirttini), которую хозяйка топит маленькими, изящными дровишками (halkosilla hienoisilla, pienillä pilaštehilla — SKVR I1 58: 104–105). Медный пол избушки подметается медным / золотым веничком, мусор собирается в медную корзинку, после чего относится во двор (в вариантах — на самое дальнее / длинное поле, в самый узкий пролив), например:
“Pyyhki pikku-pirttisehe, «Прибрала свою маленькую избушку,
|
Vaski lattieh lakasi |
Медный пол подмела |
|
Kolikoilla kultasilla, |
Голиками золотыми, |
|
Vaskisella varpasilla. |
Медными ветками. |
|
Vei heän rikkaha pihalla |
Отнесла она мусор во двор |
Vaskisella vakkasella”… (SKVR I 1 78: 55–60).
В медной корзинке…»
Медные / золотые части дома и предметы быта, равно как и золотые петли на воротах Похьёлы и свечение острова золотом, указывают на принадлежность этого локуса потустороннему пространству, как уже упоминалось ранее.
Однако А.-Л. Сиикала предлагает видеть в данном отрывке руны реальные указания на богатство хозяйки Похьёлы, на основе чего проводит еще одну параллель со скандинавскими сагами, в которых описываются разорительные набеги на земли Бьярмии, манящие своими богатствами [Siikala, 2012: 291]. Финская исследовательница пишет, что «богатство хозяйки Похьёлы изображено реально, его можно измерить количеством металла и монет» («Pohjolan emännän rikkaus on realistisesti kuvattua, metallin ja kolikoiden määrällä mittautuvaa») [Siikala, 2012: 291]. Данному утверждению способствовало неверное понимание стиха «kolikoilla kultasilla», которое исследовательница истолковала как «монетами золотыми» (фин. kolikko «монета»). Однако о монетах в текстах карельских эпических рун, и именно в приведенном отрывке, нет и речи. Слово «kolikoilla» является формой адессива множественного числа от карельской лексемы kolikka — «голик» (веник из голых прутьев), что в свою очередь является русским заимствованием и переводится букв. «голиками». То есть пол в избе подметался не «монетами золотыми», а золотыми голиками, в параллельном стихе соответственно — медными ветками. Таким образом, тезис о богатстве хозяйки Похьёлы не находит подтверждения в текстах.
Представление о Похьёле как деревне (реже крепости) иногда сужается до представлений о ней как о доме:
“Läksin neittä koizjomaha «Отправился я девушку сватать,
Pimiestä Pohjoilasta, Из темной Похьёлы,
Miesten syövästä talosta” Из дома, пожирающего мужей»
(SKVR I 1 433: 59–61).
Как следует из примера, Похьёла — это дом, пожирающий героев. Дом как метонимический эквивалент всего поселения также наделяется чертами соотнесенности с иным миром. В текстах наличествует традиционная для карельских рун формулировка, согласно которой путники попадают в дом «без дверей, без окон» (pirttih on ovettomah, ilman ikkunatto-maha — SKVR I1 78: 43–44), из которого никто не возвращается:
“Äij’ on sinne männehijä, Vaan ei pois palannehia” (SKVR I 1 78: 41–42).
«Многие туда ушли, Но никто не вернулся»
Иное измерение, из которого нельзя вернуться, эквивалентно миру мертвых. Связь избушки «без окон, без дверей» с потусторонним миром, царством мертвых прослеживается и в русской сказочной традиции, где герой на своем пути в иное царство сталкивается с избушкой на курьих ножках, «без окон, без дверей». Согласно В. Я. Проппу, «избушка стоит на какой-то видимой или невидимой грани, через которую Иван никак не может перешагнуть. Попасть на эту грань можно только через, сквозь избушку, и избушку нужно повернуть» [Пропп, 1986: 59]. Отсутствие окон и дверей, символизируя первоначальную недоступность избы для героя, становится частью внешнего облика избы, находящейся на грани между мирами, между миром героев и Похьёлой.
Из хозяйственных построек в Похьёле упоминается амбар, в котором хозяйка хранит свои лучшие одежды, а также амбар, в котором она прячет сампо. В целом данная картина отражает облик обычной деревни: в народном сознании жизнь в ином мире ничем не отличалась от жизни в этом. Однако наличие чудесных вещей, делающих жизнь в ином мире беззаботной и изобильной, предопределяет также и наличие сакральных локусов для нахождения этих предметов. Так, по одной из версий карельского эпоса, волшебное сампо хранится в каменной горе Похьёлы:
“Saatto sitte sammon tuonne «Доставила затем сампо туда
Pohjolan kivi mäkeen, В каменную гору Похьёлы,
Yheksän lukun taaksi, За девять замков,
Vaaran vaskeen takana” В медную гору»
(SKVR I 1 63a: 40–43).
Образ медной горы, вбирающий в себя, согласно разысканиям У. Харва, представления о мировой, центральной горе карельских рун [Harva, 1948: 48], локализуется в Похьёле, тем самым сакрализуя ее и помещая в центр Вселенной. Именно здесь происходят важные события карельского эпоса, побуждающие героев к действиям: здесь сватают невесту и выполняют свадебные задания; здесь создается сампо, обладание которым сулит вечный достаток и благоденствие. За недолгий период владения сампо Похьёла превратилась в плодородный и обеспеченный край. По одной из версий, сампо мололо муку, соль, деньги и все необходимое для жизни без нужды; там всходили и созревали все посевы, и вообще краю сопутствовала всяческая удача, например:
“Kuin on sampo Pohjosessa, «Когда сампо на Севере,
Kirjokansi kirjoeltu: Раскрашенная расписная крышка:
Siin’ ois kyntö, siinä kylvö, Там посевы, там всходы,
Siinä vilja kaikenlainen” Там злаки всяческие»
(SKVR I 1 79: 194–197).
В подобных представлениях отразились чаяния карельского народа о благоденствии и сытой жизни. Похьёла, пережившая расцвет за время безраздельного владения чудесным сампо, предстает в народном сознании как страна изобилия.
Основным персонажем рассматриваемого топоса, в котором оказываются эпические герои карельского эпоса, является хозяйка Похьёлы (в вариантах баба Похьи) (Pohjolan emäntä / Pohjan akka). Отметим, что в народной эпической поэзии у хозяйки Похьёлы имени нет, тогда как в поэме «Калевала» Элиас Лённрот назвал ее Лоухи. Это имя он взял из заклинательных рун о рождении девяти болезней, матерью которых оказывается хозяйка Похьёлы с именем Лоухи, Лоухетар, Ловиатар и проч.
В народных рунах хозяйка потустороннего локуса, у которой герои сватают дочь, наделена безраздельной властью и авторитетом в своих владениях. Образ подобной правительницы уходит корнями в период матриархата, когда главенствующее положение в роду занимали женщины, управлявшие семьей, хозяйством и прислугой, решавшие судьбу дочерей на выданье и руководившие обороной своего поселения. Карельские руны рисуют противоречивый образ хозяйки По-хьёлы: она и маленькая, и большая, и гостеприимная, и злобная. Черты внешнего облика (смолистые когти, большой нос), равно как и ее способность к перевоплощению в птичий облик, указывают на связь ее образа с животным, а точнее орнито-морфным миром, и институтом шаманизма (сравни: представления о птице-помощнике, в которую может при необходимости перевоплощаться шаман [Turunen: 315]).
Наряду с хозяйкой / бабой Похьёлы, в рунах встречается дед / муж / хозяин Похьёлы (Pohjan ukko / Pohjolan isäntä). В единичных случаях он просто упоминается наряду с хозяйкой Похьёлы, например:
“Uinotteli Pohjan ukon, Pohjon ukom, Pohjon akan, Kaiken Pohjoil’am peräizen” (SKVR I 1 22: 240–242).
«Усыпил деда Похьи, Деда Похьё, бабу Похьё, Всю дальнюю Похьёлу»
В одном из вариантов слепая баба и слепой дед дублируют друг друга, поочередно озвучивая условия выдачи дочери замуж (SKVR I 1 24: 4–14).
Кроме хозяина и хозяйки в Похьёле живет их дочь (в одном из вариантов их три — SKVR I1 127: 84–85), которую они отдают в жены тому, кто выковал сампо (это может быть как Илмаринен, так и Вяйнямёйнен). Девушка — дева Похьёлы, как правило, без имени (редко Анни), обладает необыкновенной красотой, чем славится далеко за пределами своего края:
“Kuin on neiti pohjosessa, Impi kylmässä kylässä, Maan kuulu, veen valivo,
«Есть девушка на севере, Дева в холодной деревне, Слава земли, гордость воды,
Kiitti puoli Pohjan maata, Lihan läpi luu näkyy, Luun läpi yin näkyy” (SKVR I 1 79: 133–138).
Хвалит ее пол-Похьи,
Сквозь мясо кость видна
Сквозь кость сердцевина видна»
В мотиве выдачи своей дочери замуж за пришельца из другого мира отражается идея экзогамных отношений, при которых нельзя брать девушек в жены из своего рода, а необходимо искать их извне. В некоторых вариантах, несмотря на всю логику повествования, согласие невесты и выполнение брачных испытаний, невеста наряду с сампо похищается.
Из других обитателей Похьёлы упоминается служанка (piika), раб / казак (orja), которых обычно посылают посмотреть, отчего лает собака.
В более общем плане упоминается народ Похьёлы, наделенный отрицательными эпитетами — плохой (noiva joukko, pahan väki — SKVR I1 42: 106–107), поганый (pakana kansa — SKVR I1 54: 237), который Вяйнямёйнен усыпляет своим трехдневным пением, игрой на кантеле либо же с помощью усыпительных иголок, например:
“Niin otti uniset nieklat, Nukutteli nuuan joukon, Paineli pakanan kansan” (SKVR I 1 54: 235–237).
«Вынул он сонные иглы, Усыпил усталый народ, Повалил поганых людей»
За время, пока вся Похьёла погружена в глубокий сон, происходит похищение сампо. Герои на сторогом быке выпахивают корни, которые сампо пустило глубоко в землю, затем грузят сампо в лодку и отправляются прочь от берегов По-хьёлы. На третий день Похьёла, очнувшись ото сна, обнаруживает пропажу, и хозяйка Похьёлы бросается в погоню. Сначала она снаряжает корабль, который приобретает черты военного судна: в нем сто мужей с шестами, другая сотня — без шестов, тысяча — с мечами, другая — без мечей, тысяча стрелков из лука, другая — без луков (SKVR I1 58: 251–258).
Данные детали призваны не столько указать на многочисленное население Похьи, сколько представить гиперболизированный образ военного корабля, отправленного в погоню за похитителями. Гиперболизация образа корабля достигается также путем его сравнения с поднимающейся тучей, которую видят на горизонте похитители:
“Näky pohjasem perältä «Видно, как из дальнего конца севера
N’iin kuim pilvi noušovakše” Как будто туча поднимается»
(SKVR I 1 60: 134–135).
Однако корабль Похьёлы разбивается о препятствие в виде скалы-острова, которое создает Вяйнямёйнен (высекает с помощью трута и огнива), заметив погоню. Тем не менее хозяйка Похьёлы продолжает преследование. Она оборачивается орлом, в описании которого применяются те же клише, что и при изображении корабля: на крыльях и хвосте орла помещаются сотни и тысячи мужей-воинов (SKVR I1 93: 204– 206). Данный прием преувеличения, осложненный градацией по возрастанию (сто < тысяча), характеризует в первую очередь саму птицу, как отмечает В. П. Миронова [Миронова: 169]. Числа эти не отражают действительной величины и вряд ли могут быть истолкованы как отражение многочисленного населения Похьёлы.
Таким образом, можно предположить, что все население Похьёлы — это семья ее хозяйки с прислугой. Это подтверждается и текстами рун. В одном из вариантов вся Похьёла, усыпленная Вяйнямёйненом, названа семьей (koko Pohjolan pereh — SKVR I1 50: 104). Будучи жителями локуса, осмысляемого потусторонним, они ничем не отличаются от жителей мира посюстороннего: занимаются домашними делами, встречают гостей. Иная сторона жизни проявляется в моменты посягательства чужих на их собственность: здесь уже начинаются метаморфозы в погоне за сампо, демонстрация магической силы при выполнении свадебных заданий.
Итак, мифическая страна Похьёла в карельских рунах связывается с представлениями о далеком, мрачном, холодном севере, в котором правит хозяйка (редко — хозяин), неизменно встречающая гостей и охраняющая свой локус и имущество. Нахождение за водной преградой, сияние золотом символизирует причастность этого локуса к потустороннему миру, традиционно отделенному от посюстороннего пространства водной стихией. Способность хозяйки Похьёлы к перевоплощению в птичий облик показывает ее связь с животным, иным миром, равно как и связь с образом шамана, способного, перевоплотившись, путешествовать из одного мира в другой. Женская природа главного персонажа Похьёлы отражает матриархальное родоплеменное устройство общества, мотив выдачи дочери замуж за представителя иного мира — отголоски экзогамных отношений. В целом, путешествие в мифическую страну Похьёлу с разными целями (случайное попадание, изготовление сампо, похищение сампо, сватовство) наиболее часто встречается в рунической поэзии северных карелов. В южной Карелии был преимущественно распространен сюжет о сватовстве в Хийтоле, имеющий много общего с севернокарельским вариантом. Похьёла, в народном сознании ассоциируемая с далеким, потусторонним (реже — загробным) миром, страной изобилия, вписывается в представления о горизонтальном устройстве мироздания, где локусы находятся в одной плоскости и разделены отрезком пути, водоразделом.
Примечания
∗ Финансовое обеспечение исследования осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания Карельского научного центра РАН (проект АААА-А18-118030190094-6).
-
1 Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / сост., вступ. ст., пер., прим. В. Я. Евсеева. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. Кн. 1. 476 с.; Кн. 2. 510 с.; Карельские эпические песни / предисл., подгот. текстов и коммент. В. Я. Евсеева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 526 с.; Karjalan kansan runot. Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn: Eesti Raamat, 1976. I. 360 s. 1980. II. 181 s.; Suomen Kansan Vanhat Runot. I– XV. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1908–1997.
-
2 Здесь и далее перевод с финского и карельского языков выполнен автором статьи.
-
3 Здесь и далее ссылки на сборник «Suomen Kansan Vanhat Runot» приводятся в тексте статьи с использованием сокращения SKVR и указанием римской цифрой номера тома, нижним индексом — номера книги тома,
далее указываются номер текста и номера стихов в круглых скобках.
-
4 Здесь и далее ссылки на сборник «Карельские эпические песни» (КЭП) приводятся в тексте статьи с указанием номера текста и номера стихов в круглых скобках.
Список литературы Образ мифической страны Похьёлы в карельских эпических рунах
- Иванова Л. И. Тапиола и Хийтола: два лесных царства карельской мифологии//Рябининские чтения -2011: материалы VI конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера (12-17 сентября 2011 г.). -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. -C. 55-59.
- Карху Э. Г. Карельский и ингерманландский фольклор в историческом освещении. История литературы Карелии. -СПб.: Наука, 1994. -Т. 1. -240 с.
- Киуру Э. С. Тема добывания жены в эпических рунах: К семантике поэтических образов. -Петрозаводск: КНЦ РАН, 1993. -132 с.
- Криничная Н. А. Русская мифология: Мир образов фольклора. -М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2004. -1008 с.
- Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса: Ранние формы и архаические памятники. -М.: Восточная литература, 1963. -462 с.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. 3-е изд., репринт. -М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. -407 с.
- Миронова В. П. Сюжет о сватовстве в мифической стране Хийтоле в контексте карельской эпической традиции. -Петрозаводск: Периодика, 2016. -224 с.
- Неклюдов С. Ю. Поэтика эпического повествования: пространство и время. -М.: Форум, 2015. -216 с.
- Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. -М.: Искусство, 1976. -330 с.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. -364 с.
- Anttonen V. Pyhän patsaan arvoitus -selitys sammolle?//Kalevalaseuran vuosikirja. -Pieksämäki: RT-Print Osakeyhtiö, 2002. -No. 79-80. -S. 123-143.
- Anttonen V. The Sampo as a Mental Representation of the Mythic Origin of Growth. Towards a New Comprehensive Theory//Mythic Discourses. Studies in Uralic Traditions/ed. by Frog, A.-L. Siikala & E. Stepanova. -Helsinki: Finnish Literature Society, 2012. -P. 171-187.
- Friis J. A. Lappalaisten noitarummusta ja Kalevalan Sammosta//Kirjallinen Kuukauslehti. -Helsinki: Otava, 1869. -No. 7-10. -S. 219-226.
- Frog. Confluence, Continuity and Change in the Evolution of Mythology. The Case of the Finno-Karelian Sampo-Cycle//Mythic Discourses. Studies in Uralic Traditions/ed. by Frog, A.-L. Siikala & E. Stepanova. -Helsinki: Finnish Literature Society, 2012. -P. 205-254.
- Harva U. Sammon ryöstö. -Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1943. -143 s.
- Harva U. Mikä on Kalevalan Pohjola?//Virittäjä. -Helsinki: Kotikielen Seura, 1947. -No. LI. -S. 114-129.
- Harva U. Suomalaisten muinaisusko. -Porvoo; Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1948. -519 s.
- Kemppinen I. Suomalaisten muinaisrunojen Pohjola. -Helsinki: Kirja-Mono OY, 1956. -95 s.
- Krohn J. Suomalaisen kirjallisuuden historia I. Kalevala. -Helsinki: Weilin & Göös, 1885. -612 s.
- Krohn K. Kalevalan runojen historia. -Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1903. -895 s.
- Krohn K. Kalevalankysymyksiä: Opas Suomen Kansan Vanhojen Runojen tilaajille ja käyttäjille ynnä suomalaisen kansanrunouden opiskelijoille ja harrastajille. -Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1918. -256 s.
- Kuusi M. Sampo-eepos. Typologinen analyysi. -Helsinki: Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia XCVI, 1949. -368 s.
- Lid N. Kalevalan Pohjola//Kalevalaseuran vuosikirja. -Porvoo; Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1949. -No. 29. -S. 104-120.
- Luukko A. Etelä-Pohjanmaan keskiaika. -Helsinki: , 1949. -235 s.
- Okkonen O. Lisiä Sammon ja Samporunon selvitykseen//Kalevalaseuran vuosikirja. -Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1933. -No. 13. -S. 34-70.
- Setälä E. N. Sammon arvoitus. -Helsinki: Otava, 1932. -654 s.
- Siikala A.-L. Myyttinen Pohjola//Kalevalaseuran vuosikirja. -Helsinki: Mäntän Kirjapaino Osakeyhtiö, 1986. -No. 66. -S. 82-85.
- Siikala A.-L. Suomalainen šamanismi: mielikuvien historiaa. -Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1992. -359 s.
- Siikala A.-L. Itämerensuomalaisten mytologia. -Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 2012. -536 s.
- Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja/päätoim. U.-M. Kulonen. -Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1995. -Osa 2. -470 s. -SSA
- Tarkka L. Rajarahvaan laulu. Tutkimus Vuokkiniemen kalevalamittaisesta runokulttuurista 1821-1921. -Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 2005. -534 s.
- Tarkka L. The Sampo. Myth and Vernacular Imagination//Mythic Discourses. Studies in Uralic Traditions/ed. by Frog, A.-L. Siikala & E. Stepanova. -Helsinki: Finnish Literature Society, 2012. -P. 143-170.
- Turunen A. Kalevalan sanakirja. -Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1949. -350 s.