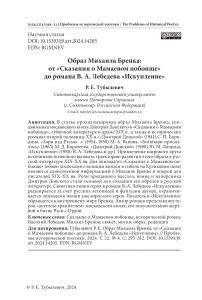Образ Михаила Бренка: от «Сказания о мамаевом побоище» до романа В. А. Лебедева «Искупление»
Автор: Тубылевич Р.Е.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован образ Михаила Бренка, сподвижника московского князя Дмитрия Донского в «Сказании о Мамаевом побоище», лубочной литературе и драме XIX в., а также в исторических романах второй половины XX в. («Дмитрий Донской» (1941) С. П. Бородина, «Зори над Русью…» (1954-1958), М. А. Рапова, «Богатыри проснулись» (1963) М. Д. Каратеева, «Дмитрий Донской» (1980) Ю. М. Лощица, «Искупление» (1980) В. А. Лебедева и др.). Привлечение широкого круга источников позволило выявить траекторию развития этого образа в русской литературе XIX-XX вв. Два эпизода из «Сказания о Мамаевом побоище» (обмен доспехами с великим князем и гибель на Куликовом поле) являются единственной информацией о Михаиле Бренке и опорой для писателей XIX-XX вв. Роли преданного вассала, воина и наперсника Дмитрия Донского стали основой для создания его образов в русской литературе. Сюжетная линия героя в романе В. А. Лебедева «Искупление» расширяется за счет русских летописей и фантазии автора, ограничивается эпизодами жизни уже взрослого героя. Писатель в «Искуплении» обращается к внутреннему миру Бренка. Автор романа представляет героя «ангелом-хранителем» московского князя, его искупительной жертвой в битве Руси с Ордой
Сказание о мамаевом побоище, исторический роман, василий лебедев, михаил бренок, сюжет, мотив, образ, рецепция
Короткий адрес: https://sciup.org/147245772
IDR: 147245772 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.14205
Текст научной статьи Образ Михаила Бренка: от «Сказания о мамаевом побоище» до романа В. А. Лебедева «Искупление»
М ихаил Бренок1 — герой Куликовской битвы, с которым связан сюжет «Сказания о Мамаевом побоище» (далее — Сказания)2 и один из мотивов мировой литературы и фольклора. Обменявшись доспехами с князем Дмитрием Донским перед сражением3, Михаил Бренок был принят за своего господина и погиб, защищая княжеское знамя:
«Тъй конь свой дасть под Михаила Андрѣевича под Бреника и ту приволоку на него положилъ, иже бѣ ему любимъ паче мѣры, и тъ знамя черное повелѣ рыделю своему над нимъ возити. Под тѣм знамянем и убиенъ бысть за великого князя» 4 .
Л. А. Дмитриев считает, что в этом эпизоде подчеркнуто мужество Дмитрия Донского, желавшего сражаться в первых рядах как простой воин [Дмитриев, 1955: 144]. Напротив, Л. В. Соколова, вслед за Л. В. Черепниным [Черепнин: 619–621], видит в нем стремление книжника «передать» заслугу общей победы сподвижникам князя [Соколова, 2024: 31–34]. А. Н. Робинсон пишет о символическом значении обмена одеждой, который позволил Дмитрию освободиться от «княжеского церемониала»5 [Робинсон: 22].
Литературные параллели к этим эпизодам, связанным с Михаилом, обнаруживает А. Е. Петров в Сербской «Александрии»: 1) обмен платьем между императором Александром Македонским и его воеводой Антиохом перед походом на си-лурского царя Евагрида; 2) попытка воеводы царя Дария Ависа «ценой собственной жизни <…> организовать покушение на (императора. — Р. Т.) Александра (Македонского. — Р. Т.)» и спасти жизнь своего господина (именно с Ависом и сравнивается Бренок в Сказании) [Петров: 60]. Здесь, как отмечает Л. В. Соколова, можно говорить не о заимствовании, а об использовании отдельных мотивов [Соколова, 2020: 672]. М. В. Мелихов обнаруживает типологическую близость этого эпизода с фрагментом средневековой беллетристики, где переодевание является воинской хитростью [Мелихов: 101].
В контексте возвышения Московского княжества все сподвижники Дмитрия Донского характеризуются Л. А. Дмитриевым как «идеальный пример "братской" верности младшего князя старшему, т. е. примером вассальной верности удельного князя великому князю московскому» [Дмитриев, 1959: 429–430]. По мнению Л. В. Соколовой, Бренок становится своего рода «двойником» Дмитрия Донского. В отличие от традиционного для эпоса двойничества, когда характеры героев наделяются качествами «взаимодополняющими» или «противоположными», здесь на фоне недостатка информации о характере Брен-ка, скорее, можно говорить о другом случае — «дополнении центрального образа второстепенным персонажем» [Соколова, 2024: 39–43].
Итак, образ Михаила Бренка в Сказании характеризуется несколькими качествами: воин, преданный «вассал» великого князя, его «эпический двойник» и «любимец» («наперсник»6), возвышению которого Дмитрий Донской поспособствовал.
Несмотря на наличие информации в Сказании, исследователи отмечают отсутствие документальных сведений о Брен-ке. Родословные легенды, связанные с ним7 и вошедшие, например, в «Родословный сборник русских дворянских фамилий» В. В. Руммеля и В. В. Голубцова (1886–1887)8, вызывают сомнения в связи с отсутствием подтверждающих их документов XIV–XV вв. [Веселовский: 498]. Резюмируя выводы предшественников, С. Б. Веселовский пишет следующее: «Бренко был худородным любимцем великого князя и ни его родители, ни потомки не входили в состав боярства… <…> В общем, ни о предках, ни о потомках Бренка мы ничего не знаем» [Веселовский: 498]. Авторы как первых произведений о Куликовской битве XIX в.9, так и исторических романов XX в. отталкиваются от сюжета Сказания при создании образа Бренка.
В исторических романах С. П. Бородина «Дмитрий Донской» (1941), М. А. Рапова «Зори над Русью…» (1954–1958), М. Д. Каратеева «Богатыри проснулись» (1963), Ю. М. Лощица «Дмитрий Донской» (1980), Ф. Ф. Шахмагонова «Ликуя и скорбя» (1981), Б. В. Дедюхина «Чур меня» (1982), В. С. Возовикова «Поле Куликово» (1982) и Д. М. Балашова «Святая Русь» (1997) сюжетная линия Михаила Бренка может ограничиваться событиями, описанными в Сказании (романы Б. В. Дедюхина и Ю. М. Лощица), или расширяться (все остальные). Ее увеличение осуществляется разными способами. Во-первых, за счет включения Бренка в состав действующих лиц других эпизодов (например, поездка князей с войском в Троицкую обитель (у Д. М. Балашова) или преломление хлеба из Троицы между князем и его воинами (Ю. М. Лощиц)). Во-вторых, с помощью вовлечения его как участника в ряд других значимых событий эпохи (выдворение по приказу Дмитрия Донского митрополита Киприана из Москвы у С. П. Бородина и Д. М. Балашова), строительство каменного Кремля (С. П. Бородин, М. А. Рапов). Наконец, благодаря созданию вымышленных эпизодов с ним. Его история может начинаться с его детства (М. А. Рапов) или ограничиваться зрелыми годами (все остальные).
Намеченные в Сказании роли Михаила Бренка изменяются. Во-первых, отношения «вассал — господин» заменяются на «сподвижничество» и «товарищество» (но остаются у Ю. М. Ло-щица)10 в связи с замыслом писателей 1940–1960-х гг. приблизить образ «вождя» (князя) к «народу»11, а авторов 1970–1990-х гг. — взглянуть на ключевые фигуры эпохи с точки зрения их «человеческой сути». Романисты придумывают эпизоды, в которых Михаил Бренок показан как надежный сподвижник и друг детства князя Дмитрия Ивановича (последнее подробно у М. А. Рапова).
Во-вторых, конкретизируются служебные обязанности Михаила. В разных романах он следит за порядком среди строителей московского Кремля, участвует в «думном сидении» Дмитрия Донского с его ближними боярами, отвечает за безопасность князя, подбирает инженеров для возведения мостов через Дон для переправы войск, формирует и подсчитывает полки и др. Авторы предлагают и различные варианты «должности» Бренка: отрок, постельничий12, боярин и воевода. Больше внимания уделяется воинским умениям Михаила, ярко изображ енным в эпизоде Куликовской битвы.
В-третьих, роль княжеского «двойника» ограничивается его функцией «заместителя» князя во время сражения и обусловлена чаще всего желанием князя участвовать в битве наравне с остальными воинами (народом) и особым доверием к Бренку.
Наконец, с образом Михаила связываются и новые мотивы: предвидение его судьбы им самим или тем, кто наделен особыми знаниями (Сергий Радонежский у Д. М. Балашова13), влияние его идей на решения великого князя (М. А. Рапов — желание Дмитрия биться в первых рядах войска, как князь Святослав, идеал князя-воина для Бренка).
Характер героя в романах варьируется. Он предстает то тихим и скромным (у Ф. Ф. Шахмагонова), то вспыльчивым и восторженным (М. А. Рапов), то спокойным и деловитым (в остальных романах). При этом его образ, заданный исходным «амплуа», раскрывается авторами почти без углубления во «внутренний мир». Иначе поступает В. А. Лебедев в романе «Искупление».
Обращение Василия Алексеевича Лебедева (1934–1981) к историческому прошлому связано не только со стремлением увидеть в нем корни современных писателю проблем, но и с его уверенностью в «выявленности народно-национального идеала в прошлом яснее, чем в настоящем» [Богданова, 2004: 28]. Исторические романы «Обреченная воля» (1975), «Утро Московии» (1976) и «Искупление» (1980) — результат размышлений автора о логике отечественной истории и о влиянии исторических событий, воспринимаемых через призму моральноэтического критерия, на «духовное самоопределение» героев [Богданова, 2004: 33]. В романах В. Лебедева поднимаются «проблемы духовного разлада, национальной разрозненности, душевной дремотности» [Богданова, 2017: 22], автор ищет от вет на вопро с «с чего начинается человек?» [Мессер: 16].
Важную роль играет религиозно-христианская символика (библейские мотивы, «душа христианская» как «один из главных элементов нравственно-эстетической системы» писателя) [Богданова, 2017: 21].
Социально-психологический роман «Искупление» становится вершиной творчества В. Лебедева. Его название, связанное с проблемой искупления грехов «вероотступничества, братопредания, небрежения земли своей» [Богданова, 2005: 405], является одновременно и лейтмотивом, раскрывающим сюжет, образы персонажей и идейное поле произведения. Художественный мир романа создается автором с опорой на средневековую картину мира, отраженную в летописях: борьба Руси и Орды изображается как сражение «света» и «тьмы», «Бога» и «дьявола». Символическая антитеза «свет» — «тьма» (и ее варианты: «дух» — «плоть», «вера» — «неверие», «святость» — «грех») пронизывает все уровни произведения и влияет в том числе на персонажей, разделенных на «своих» и «чужих», «светлых» и «темных» [Богданова, 2023: 245–246]. К «светлым» образам относится и Михаил Бренок.
Образ Михаила Бренка позволяет увидеть, каким душевным и нравственным складом должен обладать человек, способный на самопожертвование.
Создавая историю героя, В. Лебедев действует, как и его предшественники, обращаясь к эпизодам Сказания (моление в Троицкой обители перед походом) и значимым событиям эпохи из русских летописей (встреча монгольского посла Сарыхожи в Москве, поездка великого князя в Орду). Особое внимание он уделяет и вымышленным эпизодам. Как и в романе М. А. Рапова, в них входит также доверительное общение Бренка с Дмитрием Донским. М. Рапов изображает формирование дружбы между детьми — Дмитрием и сыном его ближнего боярина («старого Бренко») — на основе симпатии, сходства взглядов и характеров. У В. Лебедева акцент делается, с одной стороны, на испытанной надежности взрослого Бренка14, однажды спасшего жизнь великого князя15, а с другой — на чутье Дмитрия Донского и его знании людей.
Сюжетная линия Михаила у В. Лебедева создается в фокусе его возвышения от сокольничьего16, мечника17 до «заместителя» Дмитрия Донского на Куликовом поле. Причиной этого становится доверие московского князя (отмеченное и в остальных романах):
«Не от добрых предчувствий жалую тебя, Михайло, в мечники. Мнится мне, что грядут тяжкие дни, и не посторониться от них, не утечь» (27).
Возвышение Михаила становится проверкой его порядочности. Ее он успешно выдерживает и вместо гордости и тщеславия проявляет скромность и верность своему благодетелю. Так, на вопрос алчного князя Ю. В. Кочевина-Оле-шинского о денежной выгоде в связи с его повышением, отвечает:
«Я князю служу не за злато и благо — молю ему по вся дни за душу хри стианскую его…» (35).
Во многих романах о Куликовской битве Михаил исправно служит московскому князю, но только у В. Лебедева его помощь имеет судьбоносное значение для Дмитрия. Так, Бренко спасает его жизнь на охоте18 (когда князь впервые отмечает его «надежность»), помогает победить Мамая в символической сцене соколиной охоты в Орде (см. об этом: [Богданова, 2004: 85]) (выращенный им сокол настигает добычу раньше орла темника), впервые приводит Дмитрия на Куликово поле, заметив его как хорошее охотничье место.
Цветовая (оттенки розово-алого) и световая символика сподвижника Дмитрия Донского (центра «светлых» образов) (см. об этом: [Богданова, 2004: 55]) отражают душевную чистоту Бренка. Например, в эпизодах его смущения ( от любви к боярской дочери Анисье или от предвкушения любимой охоты — «вспыхнул румянцем на щеках <…> да и уши залило краской» (27), «легкий румянец, будто свет вечерней зари, орумянил его щеки...» (60) ) или спокойствия ( «глаза <.> чистые, прямые, как у отрока» (79); «Бренок <…> опустил красивую голову. Темный волос в полумраке рассвета казался еще темней, и так же свежо и ангельски чисто высвечивало лицо» (118) ) .
В эпизоде солнечного затмения, во время поездки Дмитрия Донского в Орду, герой обращается к молитве как к защите от зла:
«За гордыню, за грехи наши… — молился Бренок. <…>. Небо светлело, и на нем выступил светлый край солнечного ореола <…>. Когда же стало во весь размах сиять на небе солнце, Бренок все еще молился , но уже за дарование людям света и жизни» (160).
В романе изображается и вера средневекового человека в предопределенность судьбы, которую можно «считать» заранее. У Д. Балашова мотив предвидения судьбы Бренка, прежде всего, связан с образом святителя Сергия Радонежского. В. Лебедев развивает эту не осознаваемую Михаилом прозорливость еще дальше: он не только чувствует свою судьбу (в Троицкой обители стремится первым получить благословение Сергия19, ладит чистую рубаху перед битвой, готовясь к смерти20), но и невольно предрекает скорую гибель своему товарищу — Дмитрию Монастыреву, впоследствии погибшему в битве на реке Воже (1378)21. Вера становится одним из отличительных качеств Бренка. Это вера не только в Бога, но и в могущество московского правителя:
«И это оценил в Бренке Дмитрий, охваченный теплой волной благодарности к слуге, верившему в невозможное — в бессмертие великого князя» (243).
Как и в Сказании, Михаил у В. Лебедева становится верным слугой и сподвижником Дмитрия Донского.
В «Искуплении» Михаил Бренок — «двойник» Дмитрия Донского. Это проявляется во внешнем и, что еще более важно, внутреннем сходстве обоих героев:
«Росту хорошего, с князем они — бровь в бровь и волосом оба темны. Бороды у обоих легкие, веселые, и обоим по равну лет… Любил князь, чтобы рядом был этот человек, близкий душе его» (22).
Перед Куликовской битвой, облачившись в княжеские до-спехи22 и взяв коня Дмитрия, Бренок как будто принимает и смерть, грозящую князю, о чем свидетельствует примета из русских былин о поведении богатырского коня23.
Амплуа Михаила, созданное в исторических романах предшественников, у В. Лебедева изменяется до варианта «преданный оруженосец» — «единомышленник» — «двойник». Это обусловлено замыслом автора, сделавшим лейтмотивом романа идею искупления грехов «вероотступничества, брато-предания, небрежения земли своей» [Богданова, 2005: 405], залогом которого станет возвращение героев романа к искренней вере, верности ближнему и заботе об общем благе, а не личной выгоде. Этим принципам и следует Михаил Бренок. Его безграничная вера в могущество московского князя (и даже чуть ли не в бессмертие!), преклонение перед ним и верность его принципам и взглядам, которые Михаил разделяет и сам, обеспечивает ему роль надежного помощника князя. Для героя князь не только по социальному положению, но и по духовным качествам, «миссии» неизмеримо выше его. Бренок становится верным оруженосцем и помощником Донского, близким ему по духу человеком. Среди воинов, вышедших на Куликово поле, Михаил уже выступает как добровольная жертва во имя искупления общих грехов. Для этого и понадобился автору герой с чистой душой и верным сердцем, каковым и стал Михаил Бренок.
Таким образом, роли Михаила Бренка в Сказании — воин, вассал и преданный слуга, «эпический двойник» и доверенное лицо великого князя — становятся основой для его образа в русской литературе XIX–XX вв. В романах второй половины XX в. на первый план выходят его функции верного слуги, товарища и сподвижника Дмитрия Донского, роль «эпического двойника» ограничивается замещением князя во главе полка на Куликовом поле без акцента на внешнем или внутреннем сходстве героев. Сюжетная линия Бренка строится вокруг связанных с ним эпизодов Сказания. В романах С. П. Бородина, М. А. Рапова, М. Д. Каратеева, В. С. Возовикова, Д. М. Балашова и др. она расширена за счет событий, описанных в русских летописях и вымышленных писателями. Авторы конкретизируют круг обязанностей Михаила на службе у князя, предпринимают попытки объяснить доверие Дмитрия Донского к нему, в частности делая Михаила другом детства московского князя. Появляются и новые мотивы, связанные с персонажем: предвидение судьбы и влияние его идей на решения Дмитрия Донского.
В. А. Лебедев, как и его предшественники, строит сюжетную линию героя на пересказе связанных с ним фрагментов Сказания, событий русских летописей и вымышленных им эпизодов; развивает мотивы предвидения и влияния идей Михаила на решения великого князя. В отличие от других авторов, он уделяет много внимания личному общению Бренка и Дмитрия Донского и раскрывает сюжетную линию героя через призму его возвышения при дворе московского князя. Последнее становится проверкой порядочности и скромности героя, а его помощь в некоторых событиях имеет решающее значение для их благополучного исхода (спасение великого князя на охоте, победа Дмитрия над Мамаем в соколиной охоте в Орде, выбор места битвы Руси с Ордой).
Писатель обращается к внутреннему миру Михаила Брен-ка, главными качествами которого являются его вера (в Бога и князя), преданность и душевная чистота. Бренок как «двойник» Дмитрия Донского (имеющий с ним внешнее и внутреннее сходство) становится одним из искупителей грехов «вероотступничества, братопредания и междоусобия» на Куликовом поле.
Список литературы Образ Михаила Бренка: от «Сказания о мамаевом побоище» до романа В. А. Лебедева «Искупление»
- Богданова О. В. Историческая проза 1960–1990-х годов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 105 с.
- Богданова О. В. Лебедев Василий Алексеевич // Русская литература XX века: прозаики, поэты, драматурги: биобиблиографический словарь: в 3 т. / под ред. Н. Н. Скатова. М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. Т. 2. С. 404–405.
- Богданова О. В. Библейский мотив в романе В. А. Лебедева «Обреченная воля» // Успехи науки — 2017: сб. мат-лов X Междунар. науч.-практ. конф. (1 июня 2017 г.). М.: НИЦ «Империя», 2017. С. 18–22.
- Богданова О. В. «Искупление» Василия Лебедева: национальное и государственное // Богданова О. В., Цветова Н. С. Эпох скрещенье… Русская проза 1960-х — 2020-х годов. СПб.: Алетейя, 2023. С. 245–261.
- Бычков Д. М. Система стилевых признаков агиографической традиции в романе Д. М. Балашова «Похвала Сергию» // Гуманитарные исследования. 2011. № 3 (39). С. 124–133 [Электронный ресурс]. URL: https://humanities.asu.edu.ru/files/3(39)/124-133.pdf (07.06.2024).
- Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служивых землевладельцев. М.: Наука, 1969. 584 с.
- Державина О. А. Древняя Русь в русской литературе XIX века: сюжеты и образы древнерусской литературы в творчестве писателей XIX века. М.: [б. и.], 1990. 416 с.
- Дмитриев Л. А. Публицистические идеи «Сказания о Мамаевом побоище» // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 11. С. 140–155.
- Дмитриев Л. А. К литературной истории Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959. С. 406–448.
- Журавель А. В. «Бренки» на Куликовом поле // Деснинские древности: мат-лы межгос. науч. конф. «История и археология Подесенья», посвящ. памяти брян. археолога и краеведа Ф. М. Заверняева. Брянск, 2006. Вып. IV. С. 211–220 [Электронный ресурс]. URL: http://hrono.ru/statii/2006/brenki.html (07.06.2024).
- Каргалов В. В. Московская Русь в советской художественной литературе. М.: Высш. школа, 1971. 184 с.
- Максимова Н. А. Состав административно-хозяйственных чинов княжеской службы в древней Руси // Актуальные проблемы российского права. 2012. № 3. С. 12–19 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_18781710_86486489.pdf (07.06.2024). EDN: PUZZYP
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. 3-е изд., репр. М.: Восточная литература РАН, 2000. 407 с.
- Мелихов М. В. «Мечом и глаголом»: героическая традиция в русской литературе XII–XVII вв. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 320 с.
- Мессер Р. Д. Идущие вослед: литературные портреты. Л.: Лениздат, 1979. 240 с.
- Миронов А. С. Эпос русских: ценности. М.: Институт Наследия, 2023. Ч. 2: Героические «энергии»: Сила и гнев. 352 c.
- Орлов А. С. Сказочные повести об Азове. История 7135 года. Варшава: Тип. Варшавского учебного округа, 1906. 270 с.
- Петров А. Е. «Александрия Сербская» и «Сказание о Мамаевом побоище» // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 2 (20). С. 54–64 [Электронный ресурс]. URL: https://www.drevnyaya.ru/vyp/stat/s2_20_4.pdf (22.05.2024).
- Пушкарев Л. Н., Сидорова Л. П. Повести о Куликовской битве в русской лубочной картинке и книжке XIX — начала XX века // Куликовская битва в литературе и искусстве. М.: Наука, 1980. С. 129–154.
- Робинсон А. Н. Эволюция героических образов в повестях о Куликовской битве // Куликовская битва в литературе и искусстве. М.: Наука, 1980. С. 10–38.
- Сергеевич В. И. Древности русского права: в 3 т. М.: Гос. Публичная историческая б-ка России, 2007. Т. 1. 706 с.
- Соколова Л. В. К вопросу о датировке и авторстве «Сказания о Мамаевом побоище» // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. Т. 56. С. 643–682. DOI: 10.31860/0130-464X-2020-67-643-682
- Соколова Л. В. Мотив парности персонажей в «Сказании о Мамаевом побоище» // Проблемы исторической поэтики. 2024. Т. 22. № 1. С. 26–50 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1708017675.pdf (22.05.2024) DOI: 10.15393/j9.art.2024.13382
- Соколова Л. Д. Родословие семьи Брянчаниновых // Городок на Московской дороге: ист.-краеведч. сб. Вологда: Ардвисура, 1994. С. 34–56.
- Черепнин Л. В. Образование русского централизованного государства в XIV-XV веках. Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960. 899 с.
- Шафранова О. И. Предки, современники, потомки // Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова: в 8 т. / общ. ред. О. И. Шафрановой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Паломник, 2014. Т. 1. С. 583–651.
- Ungoriany D. Plotting History: The Russian Historical Novel in the Imperial Age. Madison: The University of Wisconsin Press, 2007. 335 p.