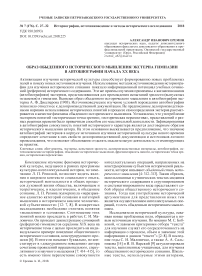Образ обыденного исторического мышления экстерна гимназии в автобиографии начала ХХ века
Автор: Еремин А.И.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7 (176), 2018 года.
Бесплатный доступ
Активизация изучения исторической культуры способствует формированию новых проблемных полей и поиску новых источников изучения. Использование методик источниковедения историографии для изучения исторического сознания показало информационный потенциал учебных сочинений (рефератов) исторического содержания. Эти же приемы изучения применены к жизнеописаниям (автобиографиям) экстернов, представлявшимся для прохождения испытаний зрелости (выпускных экзаменов) в гимназии. Выявлен образ обыденного исторического мышления в автобиографии экстерна А. Ф. Диесперова (1903). Источниковедческое изучение условий порождения автобиографии позволило отнести ее к делопроизводственной документации. Не предписанное делопроизводственными нормами использование исторических понятий в процессе самоопределения экстерна рассматривается в качестве феномена обыденного исторического мышления. Установлено, что употребление экстерном понятий «историческая точка зрения», «историческая перспектива», представлений о разных режимах времени было привычным способом его мыслительной деятельности. Зафиксированная в автобиографии совокупность понятий исторического характера является достоверным образом исторического мышления автора. На этом основании высказывается предположение, что значение автобиографий экстернов в корпусе источников изучения исторической культуры нового времени определяет сочетание в них свойств делопроизводственной документации и источников личного происхождения, что позволяет обоснованно отделять мыслительную деятельность от имитирующих ее практик.
Абитуриенты, экстерны, испытания зрелости, делопроизводственные материалы, автобиография, источниковедение историографии, обыденное историческое мышление, фрагментарность памяти, историческая точка зрения, историческая перспектива
Короткий адрес: https://sciup.org/147226354
IDR: 147226354 | УДК: 930.2(093) | DOI: 10.15393/uchz.art.2018.225
Текст научной статьи Образ обыденного исторического мышления экстерна гимназии в автобиографии начала ХХ века
Комплексное изучение феномена исторической культуры, ведущееся в рамках программы культурно-интеллектуальной истории, по замечанию Л. П. Репиной, позволяет видеть явления в широком контексте социального опыта, исторической ментальности и общих процессов духовной жизни общества, включающем и теоретическое, и идеологическое, и обыденное сознание. Л. П. Репина подчеркнула «неразрывное единство категорий сознания и категорий мышления в историческом анализе человеческой субъективности» [12: 7, 8]. В конкретных исследованиях необходимо отличать понятия «мышление» и «сознание». Соотношение этих понятий можно проследить в работах С. И. Ма-ловичко. Он проводит деконструкцию сочинений (рефератов) гимназистов середины ХIХ века на исторические темы с целью проследить на индивидуальном примере поведение общественного исторического сознания, конструирующего прошлое [6]. В итоге не называет буквально, но констатирует в «дискурсивном поведении» автора сочетание проявлений иррационального, спекулятивного и научного мышления [7: 414–415], то есть именно такое переплетение совокупности
интеллектуальных операций, направленных на конструирование субъектом исторической реальности, которое называют обыденный стиль исторического мышления [4: 312–313]. Таким образом, использованные в ученических текстах сведения исторического содержания в сгруппированном и систематизированном виде представляют собой образы общественного исторического сознания. Тогда как употребление исторической аргументации для представления иных тем является осуществлением интеллектуальных операций, то есть обыденным историческим мышлением.
Исследователи исторической культуры, осваивая новые проблемные поля, обращаются к новым источникам изучения. По мнению М. С. Бобковой, «главными критериями отбора “текста” для изучения служат его сосредоточенность на информации о прошлом, объем и значение этой информации в данном “тексте”» [2: 8]. В последние годы С. И. Маловичко, а также А. А. Сальникова [14] и И. В. Нарский [9] актуализировали тексты, выполненные учащимися, для изучения общественного исторического сознания. Школьные тексты, используемые этими авторами, выходили за рамки учебных программ и планов. К тому же исследователи не акцентировали внимание на том, как влияло целевое назначение источника на особенности его содержания. По нашему мнению, предпочтительнее использовать тексты, порожденные в среде учебной повседневности. Например, целостный локально ограниченный комплекс сочинений на отвлеченную тематику позволяет выявить коммуникации между авторами в процессе выполнения задания и на этом основании отделить в текстах рациональное поведение, направленное на получение положительной оценки, риторику и интеллектуальные операции [3].
Вне поля зрения историков, использующих школьные тексты, остаются автобиографии (жизнеописания) экстернов, представлявшиеся для прохождения испытаний зрелости (выпускных экзаменов) в гимназии. Для допущения к испытаниям зрелости экстерны направляли комплект документов, среди которых было «ими самими написанное на русском языке собственное жизнеописание». Правила об испытаниях в гимназиях и прогимназиях (1891) предписывали сообщить в жизнеописании, «обучался ли (экстерн. – А. Е.) прежде в какой-либо гимназии» и указать точные сведения, в какой университет и по какому его факультету, или в какое высшее специальное, или на какое поприще практической деятельности они имеют в виду непосредственно поступить1.
В остальном содержание жизнеописаний зависело от усмотрения авторов. Отступления от заданных тематических канонов особенно интересны, так как они могли быть тем существенно важным для автора, что не предусматривалось формуляром делопроизводственного документа. Экстерны по-разному называли требовавшиеся от них описания своей жизни. Значительная часть, в том числе А. Ф. Диесперов, озаглавливали тексты более привычным словом автобиография . Не вступая здесь в дискуссию о значении использования терминов источники личного происхождения и ego-документ, отметим, что, по нашему мнению, дело не столько в том, о каких явлениях ищет сведения исследователь. Важнее найти способ наиболее обоснованной оценки информационного ресурса источника. Это позволяет делать установление первичной социальной функции документа, вызвавшей его появление и бытование.
Автобиографии экстернов не предполагали использование исторических понятий и сюжетов, однако они могут быть использованы для изучения особенностей исторического сознания и исторического мышления, потому что автобиографический жанр, широко представленный в школьных программах и повседневном чтении в России, формировал привычки проводить более или менее осознанное разделение своей жизни на периоды (детства, отрочества, юности), размышлять о свя- зях прошлого, настоящего и будущего, отбирать и оценивать наиболее значимые события.
Автобиографии признаны важным источником едва ли не во всех направлениях гуманитарных исследований [1]. Выявлена их разветвленная внутрижанровая структура, сформулированы концепции функционирования исторического компонента индивидуальной автобиографической памяти [10], автобиографии социальных микрогрупп используют в качестве основы источниковой базы исследований духовного сословия, для изучения гендерной истории науки [11]. Автобиографии, возникшие и бытовавшие в разных социальных обстоятельствах, изучены неравномерно. Автобиографии экстернов гимназий выпали из внимания историков. Возможно, что причины этого, как и игнорирование автобиографий деятелей российского революционного движения начала ХХ века, лежат, по меткому замечанию А. Эткинда, в их чрезмерной доступности [15: 57].
Объектом изучения в данной статье является автобиография экстерна Орловской гимназии 1903 года А. Ф. Диесперова2. Цель статьи – выявить в автобиографии проявления обыденного исторического мышления и оценить информационные и интерпретационные возможности отдельной автобиографии экстерна. Необходимый исследовательский инструментарий для этого предлагает практика источниковедения историографии [8].
Итак, у нас в руках подлинник автобиографии экстерна Орловской гимназии. Ее автор, Александр Федорович Диесперов (1883–1931), впоследствии получит известность как литератор «второго ряда» и исследователь историко-философской проблематики3. Имеет страницу на сайте «Поэзия Московского университета».
Автобиография написана уверенным каллиграфическим почерком без исправлений на двух листах писчей нелинованной бумаги. При первичном прочтении обращает на себя внимание то, что текст тщательно проработан, вычитан, наполнен аллюзиями и деталями, по качеству выполнения и содержанию выходит за рамки требований к этому делопроизводственному документу гимназии. Отсутствие помарок и повторений, прямое и скрытое цитирование указывают на то, что изучаемому тексту предшествовали черновые записи.
В автобиографии перекликаются несколько взаимосвязанных основных и второстепенных содержательных планов. На фоне последовательности событий жизни автора представлены ключевые для него проблемы самоидентификации. Отдельные смысловые части автобиографии самодостаточны, их событийное и хронологическое развертывание не суммирует, а умножает значения. Если нарративно разделить жизнеописание на фрагменты и поменять их местами, то от этого смысл всего текста не изменится. В нем приведены библейское, латинские и французские изречения; назван Ф. Бэкон; употреблены понятия: память, абсолютная и историческая точка зрения, историческая перспектива.
Конкретные обстоятельства написания автобиографии отметил сам автор. Диесперов, как и многие его сверстники в конце ХIХ – начале ХХ века, зарабатывал на жизнь репетиторством начиная с пятого класса Ливенского реального училища. После окончания реального училища он давал уроки по математике своему товарищу. В качестве оплаты за уроки ему было предложено остаться на зиму в деревне, чтобы самому готовиться к экзамену на аттестат зрелости.
Я согласился и прожил там до половины марта сего (1903. – А. Е. ) года за уединенными занятиями древними языками (здесь и далее выделено мною. – А. Е. ). Но все-таки срок нескольких месяцев (с июля по март, то есть семь месяцев. – А. Е. ) оказался слишком мал, и теперь мне приходится неуверенной рукой подавать прошение , ибо подготовка моя еще не закончена4.
Выделенные курсивом выражения имеют существенное значение для понимания условий порождения автобиографии.
« За уединенными занятиями древними языками » в отдаленном имении в Орловской губернии Диесперов изучал латинский и греческий языки. С 20 июня 1902 года греческий язык как обязательный предмет был отменен, но в 1903 году его еще сдавали все абитуриенты гимназии. Впоследствии греческий изучали и сдавали только те, кто собирался продолжить обучение на историко-филологическом факультете [5]. Употребленный оборот « неуверенной рукой подавать прошение » указывает на сомнения в выборе факультета. Таким образом, Диесперов не был уверен в своих познаниях по древним языкам и решил продолжить обучение на физико-математическом факультете Московского университета. Заметим, что в 1906 году он все же перевелся на историко-филологический факультет, а университет окончил только в 1913 году (диплом 1-й степени получил в 1915 году). К тому же Диес-перов употребил философский термин «per se», восходящий к учению Ф. Аквинского, привел по памяти хрестоматийно известное изречение Ф. Бэкона из «Нового органона» (1620) о «неточном отражении явлений в неровном зеркале нашей личности». Как видим, он был знаком с философской проблематикой, размышлял о возможности обучения на историко-филологическом факультете.
Диесперов обронил фразу о «нелюбви к естественным наукам, отвращении к прикладному знанию и склонности к умозрению»5. В гимназическом образовании и предстоящих испытаниях зрелости было как раз то, что отвечало его «склонности к умозрению». Экзаменаторам предписывалось руководствоваться общим правилом, что испытание зрелости не есть испытание в памяти, а в том, развита ли в молодом человеке способность соответствующего его возрасту мышления, имеет ли он ясный, верно действующий ум, правильное и здравое суждение6.
Вероятно, что сложное построение автобиографии было связано с тем, что Диесперов сознательно стремился произвести впечатление на будущих экзаменаторов начитанностью, умением рассуждать и аргументировать.
Рассмотрим подробнее особенности использования автором приемов мышления. Ключевым для изучаемого текста является высказывание о фрагментарности памяти, которая фиксирует немногие эпизоды, неизвестно почему запомнившиеся <…> по ним теперь уже трудно, почти невозможно прочесть повесть прошлых дней, то же, что еще и до сих пор удержалось в памяти, часто неполно, сбивчиво, состоит из обрывков фраз, обрывков картин, порой из мельчайших деталей забытого общего, состоит, одним словом, из кусков мозаики, реставрировать которую уже нельзя7.
Ограниченные возможности человека понять свое недавнее прошлое Диесперов распространял не только на детство, но и на другие отрезки жизни. Его привлекали противоречия и загадки мышления. Разные взгляды не могут быть равно справедливы при абсолютной точке зрения, но, безусловно, справедливы при исторической; с этой последней и нужно судить о них: они, как и все вообще взгляды и убеждения, касающиеся жизни и определяющие наше отношение к ней, принадлежат к числу органических, т. е. могут расти, стариться, проходить с человеком все возрасты и для каждого возраста быть справедливыми и ни в каком возрасте не обладать абсолютною истиной8.
Перед нами обыденная версия популярной во второй половине ХIХ – начале ХХ века теории органического развития. Автобиография не дает оснований утверждать, что источником восприятия теории могли быть построения авторов государственной школы русской историографии. Скорее это было воздействие взглядов Г. Спенсера. Очевидно, что приведенное высказывание не являлось воспроизведением случайно услышанного или прочитанного модного научного мнения, так как оно вплетено в актуальные размышления автора.
Существенное место в автобиографии занимают размышления о восприятии времени в обыденной жизни. Диесперов не ограничился традиционными для этого жанра линейными рассказами об отдельных событиях детства, отрочества, юности. Он говорит еще и о «первой», «трудовой и плодотворной» юности, молодости, зрелости и старости. Он рассуждает из настоящего о своем прошлом и будущем. Двадцатилетний автор видел зенит, но не конец жизни человека в возрасте пятидесяти лет, что примерно равно продолжительности жизни мужчин в
России того времени. Он подошел к пониманию различной протяженности времени в рамках одной человеческой жизни. Вспомнил годы учения в Брянском городском училище и любимого учителя И. И. Гапонова при помощи библейской аллюзии:
…если десяти праведников было достаточно для спасения Гоморры от гибели, то даже одного хорошего человека довольно, чтобы спасти целую эпоху в жизни человека от забвения и неприязненного чувства к ней9.
Загадку течения времени Диесперов представил в виде поэтической метафоры, характеризуя место, где он готовился к испытаниям зрелости, процитировал самого себя, ранее сказавшего по другому поводу: «…“в ста верстах от жизни и за несколько тысяч лет от нее”, как однажды я выразился». Его интересовали границы, разделяющие периоды жизни. Первым таким событием стала смерть деда, отделившая детство от отрочества:
Таким образом, похороны отделяют в моем воспоминании детство от отрочества, кадильный дым завесой задергивает первый акт моей жизни10.
В качестве критерия для оценки проживаемых времен автор использовал понятие «историческая перспектива».
Для этого (для оценки своего недавнего прошлого. – А. Е. ) у меня нет еще исторической перспективы. Время пребывания в реальном (Ливенском реальном училище. – А. Е. ) ближе ко мне, чем время пребывания в городском (Брянском городском училище. – А. Е. ), и потому с воспоминания о нем еще не успела спасть, так сказать, чешуя личного восприятия11.
Диесперов считает субъективные эмоции («чешую личного восприятия») основным препятствием для адекватного восприятия прошлого. Но эмоции забываются.
Этот момент заживления и есть тот рубеж, перейдя который мы начинаем видеть per se то прошлое, которое раньше было не чистым фактом, а – употребляя сравнение Бэкона, лишь не точным отражением его в неровном зеркале нашей личности12.
Соединяя мысленно прожитые события, выстраивая траекторию своего будущего, заявляя о покорности судьбе и необходимости соглашаться с существующим порядком вещей, Диесперов на одной странице в разных контекстах пять раз повторил производные от слова «счастье». В делопроизводственном документе, имевшем заданные параметры содержания, он размышлял о счастье как цели жизни, хотя и не считал себя человеком счастливым. В недавней статье Л. П. Репина отметила смещение интереса программы новой культурно-исторической истории «в пространство базовых ментальных операций <…> обеспечивающих практические потребности ориентации людей в их настоящем» [13: 32,
-
39 ]. По нашему мнению, именно эту потребность ориентации в стоящих перед ним проблемах реализовал автор изучаемой автобиографии.
Таким образом, в рамках автобиографии, входившей в число обязательных документов для допуска к испытаниям зрелости, Диесперов попытался еще раз переосмыслить свое предназначение и смысл собственной жизни. В его рассказе прошлое представлено не последовательностью отдельных событий, а сочетанием не совпадавших между собой фрагментов эмоциональных воспоминаний, общепринятых оценок и субъективных представлений. Для понимания того, что действительно происходило, по мнению автора, необходима временная дистанция, или «историческая перспектива». Находясь в ситуации самоопределения и выбора жизненного поприща, он размышлял об особенностях течения времени и его восприятия человеком. Зафиксированное в источнике использование исторических терминов, представлений в разных режимах времени для решения стоявших перед автором жизненных проблем является проявлением обыденного стиля исторического мышления.
Источниковедческое изучение источника дополняет интерпретационные методики его использования, доминирующие в исследованиях культурно-интеллектуальной истории, и дает возможность наблюдать феномен функционирования обыденного исторического мышления. Отнесение автобиографии экстерна согласно ее первоначальной функции к делопроизводственным материалам гимназии, имевшим определенный круг требований к выполнению и содержанию, и выяснение обстоятельств возникновения источника позволяют утверждать, что использование исторических понятий не было обусловлено целевым назначением документа и являлось творческой интеллектуальной операцией.
Автобиография Диесперова выделяется по качеству выполнения и содержанию среди изученных нами нескольких десятков аналогичных документов экстернов. После революции 1905 года происходило угасание значения автобиографий в системе испытаний зрелости и документации гимназии. Вместо подробных, оригинальных автобиографических нарративов экстерны стали представлять краткие сведения биографического характера. Значение автобиографий экстернов в корпусе источников изучения исторической культуры нового времени определяется сочетанием в них свойств делопроизводственной документации, задающей параметры содержания, и источников личного происхождения, выражающих стремление личности к самоидентификации. Оно позволяет обоснованно отделять мыслительную деятельность от имитирующих ее практик, таких как списывание, рациональное поведение, направленное на получение положительной оценки, риторика, повторение случайно услышанного.
P. 3–17. (In Russ.)
Список литературы Образ обыденного исторического мышления экстерна гимназии в автобиографии начала ХХ века
- Правила об испытаниях учеников гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения: Утверждены министром народного просвещения 12 марта 1891 г. СПб.: Б. и., 1891. § 49.
- Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 64 (Орловская губернская мужская гимназия). Оп. 1. Д. 951. Л. 36-38.
- Русские писатели. 1800-1917: Биографич. словарь. Т. 2. Г-К / Гл. ред. П. А. Николаев. М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. С. 116-117.
- Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 64 (Орловская губернская мужская гимназия). Оп. 1. Д. 951. Л. 38.
- Правила об испытаниях. § 75.
- ГАОО. Ф. 64 (Орловская губернская мужская гимназия). Оп. 1. Д. 951. Л. 36.
- Безрогов В. Г. Автобиография и социальный опыт // Социальная история. Ежегодник 2001/2002. М.: РОССПЭН, 2004. С. 529-550.
- Б о б к о в а М. С. Стратегии изучения социокультурных кодов исторического источника // Люди и тексты. Исторический альманах. М.: ИНИ РАН, 2012. С. 7-11.
- Еремин А. И. Образ обыденного исторического мышления абитуриентов в выпускных сочинениях 1908 года // Вестник ВГУ Серия: История. Политология. Социология. 2018. № 2. С. 49-54.
- Л у б с к и й А. В. Мышление историческое // Теория и методология исторической науки: Терминологический словарь / Отв. ред. А. О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. С. 311-313.
- Максимова С. Н. Преподавание древних языков в русской классической гимназии XIX-XX века. М.: ГЛК, 2005. 304 с.
- Маловичко С. И. К проблеме перехода от традиционной темпоральности к линейной: историческое сочинение гимназиста-горца // Диалог со временем: Мировидение человека в переходные эпохи. Самара: СНЦ РАН, 2012. С. 40-59.
- Маловичко С. И. Выпускное сочинение гимназиста середины XIX в. как феномен историописания // Историографические чтения памяти профессора Виктора Александровича Муравьева: Сб. ст.: В 2 т. / Отв. ред.: Р. Б. Казаков, М. Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 2013. Т. 2. С. 396-418.
- Маловичко С. И., Румянцева М. Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное историописание. Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2013. 253 с.
- Н а р с к и й И. В. Взрослые ожидания в детских воспоминаниях: представления детей русской эмиграции о будущем России в школьных сочинениях 1924 г. // Известия Высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2007. № 3. С. 3-17.
- Ну ркова В. В. История как личный опыт // Историческая психология и социология истории. 2009. № 1. С. 5-27.
- Пушкарева Н. Л. Общая линия жизни и репрезентация успешности в автобиографиях и автобиографических интервью женщин-ученых // Tractus aevorum. 2014. Т. 1. № 1. С. 15-28.
- Р е п и н а Л. П. Историческая культура как предмет исследования // История и память: историческая культура Европы до начала нового времени. М.: Кругъ, 2006. С. 5-18.
- Репина Л. П. Темпоральные характеристики исторического сознания (о динамическом компоненте «истории памяти») // Диалог со временем. 2014. № 49. С. 28-43.
- Сальникова А. А. Школьные сочинения детей русской эмиграции как источник по социальной истории России, 1917-1920 гг. // Социальная история. Ежегодник 2001/2002. М.: РОССПЭН, 2003. С. 324-352.
- Эткинд А. «Одно время я колебался, не антихрист ли я»: субъективность, автобиография и горячая память революции // Новое литературное обозрение. 2005. № 3 (75) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ. ru/nlo/2005/73 (дата обращения 01.06.2018).