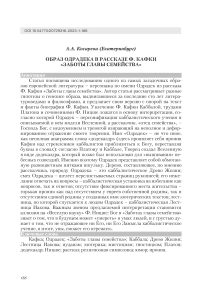Образ Одрадека в рассказе Ф. Кафки "Заботы главы семейства"
Автор: Косарева Анна Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию одного из самых загадочных образов европейской литературы - персонажа по имени Одрадек из рассказа Ф. Кафки «Заботы главы семейства». Автор статьи рассматривает разные гипотезы о генезисе образа, выдвигавшиеся за последние сто лет литературоведами и философами, и предлагает свою версию с опорой на текст и факты биографии Ф. Кафки. Увлечение Ф. Кафки Каббалой, трудами Платона и сочинениями Ф. Ницше ложатся в основу интерпретации, согласно которой Одрадек - персонификация каббалистического учения и описываемой в нем модели Вселенной, а рассказчик, «отец семейства», -Господь Бог, с недоумением и тревогой взирающий на неполное и деформированное отражение своего творения. Имя «Одрадек» - не что иное, как неполная анаграмма слова «додекаэдр» (здесь проявляет себя ирония Кафки над стремлением каббалистов приблизиться к Богу, переставляя буквы в словах): согласно Платону и Каббале, Творец создал Вселенную в виде додекаэдра, который позже был использован для «вышивания» небесных созвездий. Именно поэтому Одрадек представляет собой обмотанную разноцветным нитками шпульку. Дерево, составляющее, по мнению рассказчика, природу Одрадека - это каббалистическое Древо Жизни; смех Одрадека - шелест перелистываемых страниц рукописей; его нежелание отвечать на вопросы - каббалистическая установка на избегание как вопросов, так и ответов; отсутствие фиксированного места жительства -горькая ирония как над отсутствием у евреев собственной родины, так и отсутствием единой родины у созданных ими эзотерических текстов; лестница, по которой спускается к людям Одрадек - каббалистическая Лестница Иакова. Важным звеном предлагаемой интерпретации становится аллюзия на «Веселую науку» Ф. Ницше: Бог в «Заботах главы семейства» знает о том, что в будущем может «умереть» в умах людей, и с грустью думает о том, что не отражающее ни Его, ни Его Замысла каббалистическое учение, в итоге, увы, сможет его пережить.
Кафка, одрадек, «заботы главы семейства», каббала, древо жизни, лестница иакова, иудаизм, эзотерика, мистицизм, гностицизм, платон, додекаэдр, ницше, рассказ, религиозная символика, юмор, ирония
Короткий адрес: https://sciup.org/149142766
IDR: 149142766 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-188
Текст научной статьи Образ Одрадека в рассказе Ф. Кафки "Заботы главы семейства"
Kafka; Odradek; “The Cares of the Family Man”; Kabbalah; Tree of Life; Jacob’s Ladder; Judaism; esotericism; mysticism; Gnosticism; Plato; dodecahedron; Nietzsche; story; religious symbolism; humor; irony.
На протяжении почти ста лет образ Одрадека из рассказа Ф. Кафки «Заботы главы семейства» (1919) оставался в истории литературы загадкой. Кто такой Одрадек – вещь или живое существо? Откуда он? И почему рассказчик, глава семейства, досадует, что Одрадек его переживет? Вальтер Беньямин назвал Одрадека «формой, которую вещи принимают в забвении» [Benjamin 1996, 811], а Теодор Адорно – «товаром, пережившим свое предназначение», «примером того, как существуют вещи при капитализме» [цит. по: Snoek 2012, 71]. Гарольд Блум увидел в образе Од-радека провокацию («он провоцирует главу семейства на сверхъестественные размышления, которые, возможно, являются кафкианской пародией на стремление к смерти по Фрейду» [Bloom 2010, 10]), «детское творение, бесцельное и поэтому не подверженное влечению к смерти» и «фрейдистское возвращение вытесненного» [Bloom 2010, 10], а Иэн Флайшман в статье «Шорох антропоцена: Одрадек Кафки как экокритическая икона» выполнил обзор исследований, посвященных Одрадеку как иллюстрации новейших подходов в гуманитарных науках об окружающей среде. Например, для философа Т. Мортона Одрадек – пример «попытки концептуализировать объекты настолько огромные и всеобъемлющие (такие, как изменение климата), что они, казалось бы, находятся за пределами человеческого восприятия» [Fleishman 2017, 43], а для Д. Беннетт – символ всех не замеченных человечеством существ, населяющих экосистему планеты [Fleishman 2017, 53]. Дж. Хиллис Миллер видит в Одрадеке «модель саморазрушающихся неорганических технологических структур», «бесцельную процедуру» и новый способ осмысления окружающего мира [цит. по: Fleishman 2017, 59–60], а философ Вернер Хамахер – «ловушку», «искушение искать более глубокий смысл, чем тот, который мы могли бы понять» [цит. по: Fleishman 2017, 61]. Сам Флайшман полагает, что Од-радек – не сущность, а «язык, способный выражать невыразимое и концептуализировать непостижимое» и «то, как заканчивается наш мир – не взрывом, а шорохом» [Fleishman 2017, 44]. Йохан Шимански и Стивен Вулф в монографии «Эстетика границ: концепции и пересечения» предположили, что Одрадек – «пограничное существо», которое «берет с собой границу во многие места» [Schimansky, Wolfe 2017, 118], или, возможно, метафора некой эстетической категории: «В терминах Канта эстетическое (как бескорыстное) не может быть использовано. Но в кафкианских терминах оно связано с идеей использования, хотя и непонятным образом» [Schimansky, Wolfe 2017, 120]. А. Брюс и Р. Марч, рассматривая образ Од-радека, пришли к выводу, что этот персонаж, отдаленно напоминающий Звезду Давида, не имеет, тем не менее, «ни цели <…> ни религиозной или культурной значимости» [Bruce, March 2007, 162]. Г. Сафран Наве назвала Одрадека «страдающей душой» [Naveh 2000, 146], К. Дуттлингер – воплощением «границ человеческого познания и самой человеческой жизни» [Duttlinger 2013, 85], Д. Сучов – еврейской культурной традицией [Suchoff 2011, 22], а М. Некула увидел функцию Одрадека в подрыве веры в «фиксированную, подлинную, “органическую” и, следовательно, осмысленную еврейскую идентичность» [Nekula 2016, 40]. Рональд Хэйман предположил, что образ Одрадека мог быть как-то связан с уроками иврита, которые Кафка брал как раз в период написания «Забот главы семейства», а Джон Хоулз выдвинул гипотезу, согласно которой этот рассказ мог быть пародией на священный текст – возможно, Талмуд, в котором есть сорок девять уровней смысла, которые необходимо различать: «Столкнувшись с полиморфным излишком формы, пусть и в образе скромного Одраде-ка, герменевтика безнадежно хромает» [Hoyles 1991, 207]. С наличием пародийного элемента соглашается и Г. Блум: «Одрадек явно был сделан изобретательным ребенком c хорошим чувством юмора, подобно Иегове, создавшему Адама из красной глины. Трудно не видеть в таком творении, как Одрадек, пародию» [Bloom 2009, 177]. Цель этой статьи – предложить новую гипотезу о генезисе образа Одрадека с опорой на факты биографии Франца Кафки и учетом как наличия возможного религиозного контекста в рассказе, так и предполагаемой юмористической составляющей.
Некоторые исследователи пытались найти разгадку сущности Одраде-ка в его имени, перебирая созвучные «одрадеку» слова в чешском и немецком языках. Сам рассказчик (а с ним, вероятно, и автор) недвусмысленно дает понять, что попытки найти ключ в чешском или немецком обречены на провал: «Одни говорят, что слово “одрадек” славянского корня и пытаются на основании этого объяснить образование данного слова. Другие считают, что слово это немецкого происхождения, но испытало славянское влияние. Неуверенность обоих толкований приводит, однако, к справедливому, пожалуй, заключению, что оба неверны, тем более что ни одно из них не открывает смысла этого слова» [Кафка 2000, 251]. Тем не менее, необычность имени «Одрадек» шутливо приглашает нас к интерпретации и, вероятно, такой, которая выходит за пределы серьезных лингвистических методов. Предположим, что Одрадек – это анаграмма и / или часть какого-то более длинного слова. Перестановка букв в словах и создание анаграмм для постижения сути тех или иных явлений тонкого мира – излюбленный метод каббалистов, изысканиями которых на протяжении жизни интересовался Кафка. Рассказчик отмечает, что, рассматривая Одрадека, можно предположить, что «это творение имело прежде какую-то целесообразную форму, а теперь просто сломалось» [Кафка 2000, 252], но «нет никаких признаков этого; нигде не видно ни отметин, ни изломов, которые бы указывали на что-то подобное; при всей кажущейся нелепости тут есть своего рода законченность» [Кафка 2000, 252]. Если предположить, что Одрадек все же является законченной формой, но той, которая раньше была частью чего-то более крупного, противоречие разрешится. Само название существа – Одрадек (нем. Odradek) – может намекать на то, что оно является частью додекаэдра (нем. Dodekaeder), в форме которого, согласно Платону и каббалистической традиции, Бог создал Вселенную.
Образ Вселенной, созданной в форме додекаэдра, впервые появляется у Платона, сочинения которого вдохновляли Кафку на протяжении десятилетий. М. Блум указывает, что Кафка читал Платона в оригинале, а в одном из своих дневников анализировал «Республику» [Blum 2011, 11]. Соответственно, и с платоновской концепцией устройства Вселенной Кафка вполне мог быть знаком. Священный додекаэдр Платона украшен вышивкой: «Предполагалось, что двенадцатигранный додекаэдр представляет (или является) космосом с его двенадцатью знаками Зодиака. Платон объяснял, что Творец использовал додекаэдр для вышивания созвездий всего неба» [Tubbs 2009, 37]. Если Одрадек – часть священного додекаэдра, использовавшегося для вышивания созвездий, то становится ясно, почему он имеет форму шпульки с нитками, которые волочатся за ним, когда он перемещается из одной точки в другую: «На первый взгляд оно походит на плоскую звездообразную шпульку для пряжи, да и впрямь кажется, что оно обтянуто пряжей; правда, этого всего лишь какие-то спутавшиеся и свалявшиеся обрывки разнородной и разномастной пряжи <…> Значит, и под ноги моим детям и детям детей он еще будет когда-нибудь скатываться с лестницы, волоча за собой нитку?» [Кафка 2000, 251–252]. «Звездообразная» форма шпульки, – отсылка к Звезде Давида, а значит, именно к еврейскому контексту. Кафка, с увлечением изучавший Каббалу и даже мечтавший о создании собственной ее версии, мог задумать Одра-дека как материальное воплощение именно каббалистической традиции. Согласно Каббале, материальный мир не только был создан в виде додекаэдра [Reuchlin 1993, 209], но и имеет двенадцать измерений. Кроме того, у Бога есть двенадцать областей влияния, имя Бога существует в двенадцати комбинациях, а дети Божии – двенадцать колен еврейского народа: «В Каббале двенадцать колен называются Колесницей Бога, а также Божественной Печатью. Вместе они образуют крепкое средство передвижения для духовного тела еврейского народа, которое содержит весь спектр энергий, необходимых для Божьей работы» [Glick 2015, 82]. Приведенный выше фрагмент объясняет и подвижность Одрадека («крайне подвижен», «может стоять прямо, словно на двух ногах» [Кафка 2000, 252]): он не только часть созданной когда-то Богом двенадцатигранной вселенной, но и, пусть и несколько деформированная, каббалистическая Колесница Бога и Адам Кадмон.
Одрадек постоянно перемещается из дома в дом, и в этом тоже присутствует каббалистический смысл, ведь дом в Каббале – отражение присутствия Бога в материальном мире: «Первое отражение божественных сфер в материальном мире – это духовные силы человека. Второе – тело. Третье – одежда на теле. Четвертое – это дом, в котором обитает человек, его тело и его одежда. Божественное присутствие в человеческом мире далеко не абстрактно: конечное отражение, “дом”, не мистический символ, а вполне материальный, знакомый всему Средиземноморью, с внутренним двориком» [Weinstein 2016, 74–75]. «Дом» в Каббале – это место, где реализуются религиозные практики Каббалы и протекает семейная жизнь, а также жизнь общин и братств. Неудивительно, что Одрадек, олицетворяющий каббалистическое учение, переходит из дома в дом: без него обучение новых поколений невозможно.
Каббала представляет собой собрание древних рукописей, в которых представлена метафизическая схема, известная как каббалистическое Древо Жизни: эта схема описывает структуру и динамику существования. Когда рассказчик высказывает догадку, что дерево составляет природу Одрадека, речь идет о Древе Жизни. Каббалистическое толкование проясняет и то, почему Одрадек скатывается вниз по лестнице. Лестница в Каббале – символ человека: «Человек – это лестница, поставленная на землю, вершина которой достигает неба. Этот образ <…> рассматривает душу как сущность человека и как лестницу, соединяющую небо и землю» [Ariel 2006, 19]. Одрадек, съезжающий вниз по лестнице, – метафора освоения человеком каббалистического учения. Остается вопрос: почему Одрадек выглядит именно осколком священного додекаэдра (модели вселенной), таким крошечным и неказистым? Вероятно, потому, что в среде каббалистов принято считать, что величайшие тайны Каббалы были утеряны еще в далекой древности, и те тексты, которые дошли до Кафки и его современников, были лишь крошечной частью того объема исследований, которые раскрывали природу Бога и созданной им Вселенной.
И здесь следует обратиться к образу рассказчика – отцу семейства. Если предположить, что отец – это Бог (в оригинале рассказчик – «Hausvater», а «Vater» в немецком – не только «отец», но и «творец», «создатель»), то становится ясно, почему Каббала в том виде, в каком она доходит до людей, вызывает у него тревогу. Бог смотрит на остатки священного додекаэдра и не узнает его. Это не та модель Вселенной, которую он когда-то создал, и ему тревожно оттого, что до «его детей и детей детей» [Кафка 2000, 252] – то есть людей – дойдут лишь деформированные фрагментарные знания об устройстве его творения. Неполное знание ущербно, и оно не выполняет своего назначения, однако это не значит, что оно обречено на исчезновение: «Разве он может умереть?» [Кафка 2000, 252]. О том, что под отцом семейства подразумевается именно Бог, может свидетельствовать и видение евреями фигуры Творца: «Иегова не является ни основателем, ни сторонним наблюдателем, хотя иногда его можно принять и за то, и за другое. Его основным тропом является отцовство <…> и его вмешательство – вмешательство заговорщика, а не зрителя» [Bloom 2009, 179]. Однако если рассказчик – это Бог, то почему он тревожится о том, что обрывочные эзотерические знания об устройстве Вселенной могут пережить его самого («представить себе, что он меня еще и переживет, мне почти мучительно» [Кафка 2000, 252])? Ведь Бог по определению бессмертен. Здесь прослеживается влияние Фридриха Ницше, занимавшего в жизни Кафки особое место: «Ницше не только обрисовал ряд критических вопросов, актуальных для поколения интеллектуалов Кафки; для Кафки он, Ницше, сам составлял важнейшую проблему» [Corngold 2009, 228]. Ницше говорил о «смерти бога» как о неизбежном следствии развития человеческой цивилизации – наука и технический прогресс, по мысли философа, должны были вытеснить религию. Смерть Бога подразумевала исчезновение понятия «Бог», и в рассказе об Одрадеке Кафка со свойственной ему иронией показывает читателю восприятие Богом такого мировоззрения: когда он, Бог, «умрет» в сознании людей, религиозные трактаты о нем (жалкая попытка описать Его и созданное Им) будут продолжать жить. По сути, это иллюстрация слов Ницше: «Бог мертв: но такова природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень» [Ницше 2001, 159]. Такой «пещерой» в понимании Ницше была и Каббала, и другие священные тексты. Кафка читал Ницше с интересом, и образность философа, очевидно, его вдохновляла, однако с тем же увлечением он читал и каббалистические тексты: «Мировоззрение Кафки было глубоко пронизано каббалой, точнее, гностической каббалой, которая была древней формой еврейского эзотеризма» [Leavitt 2012, 13–
-
14] . Г. Шолем даже рекомендовал желающим постигнуть Каббалу, читать Кафку [Idel 2010, 118].
Томас Манн однажды назвал Кафку «религиозным юмористом», который стремился «быть рядом с Богом, жить в Боге, жить правильно и по воле Бога», но который «чувствовал себя очень далеким от безопасности в Боге и воли Божьей» [цит по: Han 2011, 191]. Г. Сафран Наве также отмечает свойственный Кафке тонкий юмор: «<…> Кафка писал из чувства радикальной безнадежности, в эпоху упадка, потери смысла и эрозии традиции. <…> Литературный ответ Кафки, кажется, приобрел два интересных оттенка: каббалу и иронию» [Naveh 2000, 146]. О том, что, несмотря на интерес к религии, Кафка относился к ней с известной долей юмора, свидетельствует и его рассказ «Посейдон», в котором, задействовав основанную на омофонии игру слов – “Gott der Meere” (бог морей) и “Gott der Mehre” (бог доходов) – писатель изобразил Посейдона в образе прилежного бухгалтера. Посейдона, труженика и перфекциониста, задевает мнение людей, который считают его бездельником: «Больше всего он сердился <…> когда слышал, каким его себе представляют люди: будто он непрерывно разъезжает со своим трезубцем между морскими валами. А на самом деле он сидит здесь, в глубине мирового океана, и занимается расчетами» [Кафка 2000, 282]. Людям не хватает знаний, чтобы судить о Посейдоне справедливо, и он обижается на не соответствующие действительности оценки. Сходная ситуация представлена и в «Заботах главы семейства»: Бога уязвляет, что, не зная, какой Он на самом деле и каким изначально было его творение, люди будут судить о Нем, глядя на неказистого Одрадека – передающееся от одного поколения к другому каббалистическое учение. У Одрадека нет «определенного местожительства», потому что нет фиксированного «жилья» у Каббалы, а смех его подобен «шороху в упавших листьях» [Кафка 2000, 252], потому что этот смех – шелест перелистываемых страниц бумажных рукописей: в немецком языке Blättern – это и листья деревьев, и листки бумаги, и процесс перелистывания страниц. Каббала, как и любая книга, конечно, по-своему «говорит» с читателем, но, согласно традиции, не спешит отвечать на вопросы, как и Одрадек: «<…> ведь каждому вопросу предшествует сомнение, и от сомнения не свободен ответ. Цепочка вопросов и ответов, в основе своей, – цепочка сомнений» [Safran 1975, 211]. Одрадек никогда не производил никаких действий, так как мудрость Каббалы не требует «практики каких-либо обычаев или ритуалов» [Laitman 2005, 312], и рассказчик сравнивает его с ребенком, так как Каббала (Адам Кадмон) – такое же «дитя» человека, как человек (Адам) – дитя Бога. Г. Сафран Наве писала, что «комизм у Кафки заключается в явной ошибке, заключающейся в любом утверждении, которое может быть сделано о мире» [Naveh 2000, 146]. В этом смысле рассказ «Заботы главы семейства» – образец такого рода комизма, ведь источником юмора здесь является и человеческая ограниченность в познании Вселенной, и самодовольство, заставляющее людей думать, что они могут постигнуть и описать все, что пожелают.Некоторые исследователи пытались найти разгадку сущности Одрадека в его имени, перебирая созвуч- ные «одрадеку» слова в чешском и немецком языках. Сам рассказчик (а с ним, вероятно, и автор) недвусмысленно дает понять, что попытки найти ключ в чешском или немецком обречены на провал: «Одни говорят, что слово “одрадек” славянского корня и пытаются на основании этого объяснить образование данного слова. Другие считают, что слово это немецкого происхождения, но испытало славянское влияние. Неуверенность обоих толкований приводит, однако, к справедливому, пожалуй, заключению, что оба неверны, тем более что ни одно из них не открывает смысла этого слова» [Кафка 2000, 251]. Тем не менее, необычность имени «Одрадек» шутливо приглашает нас к интерпретации и, вероятно, такой, которая выходит за пределы серьезных лингвистических методов. Предположим, что Одрадек – это анаграмма и / или часть какого-то более длинного слова. Перестановка букв в словах и создание анаграмм для постижения сути тех или иных явлений тонкого мира – излюбленный метод каббалистов, изысканиями которых на протяжении жизни интересовался Кафка. Рассказчик отмечает, что, рассматривая Одрадека, можно предположить, что «это творение имело прежде какую-то целесообразную форму, а теперь просто сломалось» [Кафка 2000, 252], но «нет никаких признаков этого; нигде не видно ни отметин, ни изломов, которые бы указывали на что-то подобное; при всей кажущейся нелепости тут есть своего рода законченность» [Кафка 2000, 252]. Если предположить, что Одрадек все же является законченной формой, но той, которая раньше была частью чего-то более крупного, противоречие разрешится. Само название существа – Одрадек (нем. Odradek) – может намекать на то, что оно является частью додекаэдра (нем. Dodekaeder), в форме которого, согласно Платону и каббалистической традиции, Бог создал Вселенную.
Образ Вселенной, созданной в форме додекаэдра, впервые появляется у Платона, сочинения которого вдохновляли Кафку на протяжении десятилетий. М. Блум указывает, что Кафка читал Платона в оригинале, а в одном из своих дневников анализировал «Республику» [Blum 2011, 11]. Соответственно, и с платоновской концепцией устройства Вселенной Кафка вполне мог быть знаком. Священный додекаэдр Платона украшен вышивкой: «Предполагалось, что двенадцатигранный додекаэдр представляет (или является) космосом с его двенадцатью знаками Зодиака. Платон объяснял, что Творец использовал додекаэдр для вышивания созвездий всего неба» [Tubbs 2009, 37]. Если Одрадек – часть священного додекаэдра, использовавшегося для вышивания созвездий, то становится ясно, почему он имеет форму шпульки с нитками, которые волочатся за ним, когда он перемещается из одной точки в другую: «На первый взгляд оно походит на плоскую звездообразную шпульку для пряжи, да и впрямь кажется, что оно обтянуто пряжей; правда, этого всего лишь какие-то спутавшиеся и свалявшиеся обрывки разнородной и разномастной пряжи <…> Значит, и под ноги моим детям и детям детей он еще будет когда-нибудь скатываться с лестницы, волоча за собой нитку?» [Кафка 2000, 251–252]. «Звездообразная» форма шпульки, – отсылка к Звезде Давида, а значит, именно к еврейскому контексту. Кафка, с увлечением изучавший Каббалу и даже мечтавший о создании собственной ее версии, мог задумать Одрадека как материальное воплощение именно каббалистической традиции. Согласно Каббале, материальный мир не только был создан в виде додекаэдра [Reuchlin 1993, 209], но и имеет двенадцать измерений. Кроме того, у Бога есть двенадцать областей влияния, имя Бога существует в двенадцати комбинациях, а дети Божии – двенадцать колен еврейского народа: «В Каббале двенадцать колен называются Колесницей Бога, а также Божественной Печатью. Вместе они образуют крепкое средство передвижения для духовного тела еврейского народа, которое содержит весь спектр энергий, необходимых для Божьей работы» [Glick 2015, 82]. Приведенный выше фрагмент объясняет и подвижность Одрадека («крайне подвижен», «может стоять прямо, словно на двух ногах» [Кафка 2000, 252]): он не только часть созданной когда-то Богом двенадцатигранной вселенной, но и, пусть и несколько деформированная, каббалистическая Колесница Бога и Адам Кадмон.
Одрадек постоянно перемещается из дома в дом, и в этом тоже присутствует каббалистический смысл, ведь дом в Каббале – отражение присутствия Бога в материальном мире: «Первое отражение божественных сфер в материальном мире – это духовные силы человека. Второе – тело. Третье – одежда на теле. Четвертое – это дом, в котором обитает человек, его тело и его одежда. Божественное присутствие в человеческом мире далеко не абстрактно: конечное отражение, “дом”, не мистический символ, а вполне материальный, знакомый всему Средиземноморью, с внутренним двориком» [Weinstein 2016, 74–75]. «Дом» в Каббале – это место, где реализуются религиозные практики Каббалы и протекает семейная жизнь, а также жизнь общин и братств. Неудивительно, что Одрадек, олицетворяющий каббалистическое учение, переходит из дома в дом: без него обучение новых поколений невозможно.
Каббала представляет собой собрание древних рукописей, в которых представлена метафизическая схема, известная как каббалистическое Древо Жизни: эта схема описывает структуру и динамику существования. Когда рассказчик высказывает догадку, что дерево составляет природу Одрадека, речь идет о Древе Жизни. Каббалистическое толкование проясняет и то, почему Одрадек скатывается вниз по лестнице. Лестница в Каббале – символ человека: «Человек – это лестница, поставленная на землю, вершина которой достигает неба. Этот образ <…> рассматривает душу как сущность человека и как лестницу, соединяющую небо и землю» [Ariel 2006, 19]. Одрадек, съезжающий вниз по лестнице, – метафора освоения человеком каббалистического учения. Остается вопрос: почему Одрадек выглядит именно осколком священного додекаэдра (модели вселенной), таким крошечным и неказистым? Вероятно, потому, что в среде каббалистов принято считать, что величайшие тайны Каббалы были утеряны еще в далекой древности, и те тексты, которые дошли до Кафки и его современников, были лишь крошечной частью того объема исследований, которые раскрывали природу Бога и созданной им Вселенной.
И здесь следует обратиться к образу рассказчика – отцу семейства. Если предположить, что отец – это Бог (в оригинале рассказчик – «Hausvater», а «Vater» в немецком – не только «отец», но и «творец», «создатель»), то становится ясно, почему Каббала в том виде, в каком она доходит до людей, вызывает у него тревогу. Бог смотрит на остатки священного додекаэдра и не узнает его. Это не та модель Вселенной, которую он когда-то создал, и ему тревожно оттого, что до «его детей и детей детей» [Кафка 2000, 252] – то есть людей – дойдут лишь деформированные фрагментарные знания об устройстве его творения. Неполное знание ущербно, и оно не выполняет своего назначения, однако это не значит, что оно обречено на исчезновение: «Разве он может умереть?» [Кафка 2000, 252]. О том, что под отцом семейства подразумевается именно Бог, может свидетельствовать и видение евреями фигуры Творца: «Иегова не является ни основателем, ни сторонним наблюдателем, хотя иногда его можно принять и за то, и за другое. Его основным тропом является отцовство <…> и его вмешательство – вмешательство заговорщика, а не зрителя» [Bloom 2009, 179]. Однако если рассказчик – это Бог, то почему он тревожится о том, что обрывочные эзотерические знания об устройстве Вселенной могут пережить его самого («представить себе, что он меня еще и переживет, мне почти мучительно» [Кафка 2000, 252])? Ведь Бог по определению бессмертен. Здесь прослеживается влияние Фридриха Ницше, занимавшего в жизни Кафки особое место: «Ницше не только обрисовал ряд критических вопросов, актуальных для поколения интеллектуалов Кафки; для Кафки он, Ницше, сам составлял важнейшую проблему» [Corngold 2009, 228]. Ницше говорил о «смерти бога» как о неизбежном следствии развития человеческой цивилизации – наука и технический прогресс, по мысли философа, должны были вытеснить религию. Смерть Бога подразумевала исчезновение понятия «Бог», и в рассказе об Одрадеке Кафка со свойственной ему иронией показывает читателю восприятие Богом такого мировоззрения: когда он, Бог, «умрет» в сознании людей, религиозные трактаты о нем (жалкая попытка описать Его и созданное Им) будут продолжать жить. По сути, это иллюстрация слов Ницше: «Бог мертв: но такова природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень» [Ницше 2001, 159]. Такой «пещерой» в понимании Ницше была и Каббала, и другие священные тексты. Кафка читал Ницше с интересом, и образность философа, очевидно, его вдохновляла, однако с тем же увлечением он читал и каббалистические тексты: «Мировоззрение Кафки было глубоко пронизано каббалой, точнее, гностической каббалой, которая была древней формой еврейского эзотеризма» [Leavitt 2012, 13–14]. Г. Шолем даже рекомендовал желающим постигнуть Каббалу, читать Кафку [Idel 2010, 118].
Томас Манн однажды назвал Кафку «религиозным юмористом», который стремился «быть рядом с Богом, жить в Боге, жить правильно и по воле Бога», но который «чувствовал себя очень далеким от безопасности в Боге и воли Божьей» [цит по: Han 2011, 191]. Г. Сафран Наве также отмечает свойственный Кафке тонкий юмор: «<…> Кафка писал из чувства радикальной безнадежности, в эпоху упадка, потери смысла и эрозии традиции. <…> Литературный ответ Кафки, кажется, приобрел два интересных оттенка: каббалу и иронию» [Naveh 2000, 146]. О том, что, несмотря на интерес к религии, Кафка относился к ней с известной долей юмора, свидетельствует и его рассказ «Посейдон», в котором, задействовав основанную на омофонии игру слов – “Gott der Meere” (бог морей) и “Gott der Mehre” (бог доходов) – писатель изобразил Посейдона в образе прилежного бухгалтера. Посейдона, труженика и перфекциониста, задевает мнение людей, который считают его бездельником: «Больше всего он сердился <…> когда слышал, каким его себе представляют люди: будто он непрерывно разъезжает со своим трезубцем между морскими валами. А на самом деле он сидит здесь, в глубине мирового океана, и занимается расчетами» [Кафка 2000, 282]. Людям не хватает знаний, чтобы судить о Посейдоне справедливо, и он обижается на не соответствующие действительности оценки. Сходная ситуация представлена и в «Заботах главы семейства»: Бога уязвляет, что, не зная, какой Он на самом деле и каким изначально было его творение, люди будут судить о Нем, глядя на неказистого Одрадека – передающееся от одного поколения к другому каббалистическое учение. У Одрадека нет «определенного местожительства», потому что нет фиксированного «жилья» у Каббалы, а смех его подобен «шороху в упавших листьях» [Кафка 2000, 252], потому что этот смех – шелест перелистываемых страниц бумажных рукописей: в немецком языке Blättern – это и листья деревьев, и листки бумаги, и процесс перелистывания страниц. Каббала, как и любая книга, конечно, по-своему «говорит» с читателем, но, согласно традиции, не спешит отвечать на вопросы, как и Одрадек: «<…> ведь каждому вопросу предшествует сомнение, и от сомнения не свободен ответ. Цепочка вопросов и ответов, в основе своей, – цепочка сомнений» [Safran 1975, 211]. Одрадек никогда не производил никаких действий, так как мудрость Каббалы не требует «практики каких-либо обычаев или ритуалов» [Laitman 2005, 312], и рассказчик сравнивает его с ребенком, так как Каббала (Адам Кадмон) – такое же «дитя» человека, как человек (Адам) – дитя Бога. Г. Сафран Наве писала, что «комизм у Кафки заключается в явной ошибке, заключающейся в любом утверждении, которое может быть сделано о мире» [Naveh 2000, 146]. В этом смысле рассказ «Заботы главы семейства» – образец такого рода комизма, ведь источником юмора здесь является и человеческая ограниченность в познании Вселенной, и самодовольство, заставляющее людей думать, что они могут постигнуть и описать все, что пожелают.
Список литературы Образ Одрадека в рассказе Ф. Кафки "Заботы главы семейства"
- Кафка Ф. Рассказы. Пропавший без вестп. М.: Фолпо, 2000. 544 с.
- Ницше Ф. Веселая наука. М.: «Олма-пресс», 2001. 382 с.
- Ariel D.S. The Mystic Quest in Judaism. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield, 2006. 257 p.
- Benjamin W.W. Selected Writings: 1927-1934. Cambridge, London: Belknap Press, 1996. 870 p.
- Bloom H. Franz Kafka. New York: Facts on File, 2010. 244 p.
- Bloom H. Ruin the Sacred Truths: Poetry and Belief from the Bible to the Present. Cambridge, London: Harvard University Press, 2009. 204 p.
- Blum M.E. Kafka's Social Discourse: An Aesthetic Search for Community. Bethlehem: Lehigh University Press, 2011. 303 p.
- Bruce Ir, March R. Kafka and Cultural Zionism: Dates in Palestine. Madison: University of Wisconsin Press, 2007. 262 p.
- Corngold St. Lambent Traces: Franz Kafka. Princeton: Princeton University Press, 2009. 288 p.
- Duttlinger C. The Cambridge Introduction to Franz Kafka. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 337 p.
- Fleishman I.Th. The Rustle of the Anthropocene: Kafka's Odradek as Ecocritical Icon // The Germanic Review. 2017. № 92(1). P. 40-62.
- Glick R.Y. Walking the Path of the Jewish Mystic. Woodstock: Jewish Lights Publishing, 2015. 224 p.
- HanJ.J. Wise Blood: A Re-Consideration. Amsterdam-New York: Brill, 2011. 472 p.
- Hoyles J. The Literary Underground: Writers and the Totalitarian Experience, 1900-1950. New York: St. Martin's Press, 1991. 294 p.
- Idel M. Old Worlds, New Mirrors: On Jewish Mysticism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010. 323 p.
- Kafka F. Die Sorge des Hausvaters / Project Gutenberg. URL: https://www. projekt-gutenberg.org/kafka/erzaehlg/chap024.html (дата обращения: 01.07.2022)
- Laitman M. The Path of Kabbalah. Toronto: Laitman Kabbalah Publishers, 2005. 380 p.
- Leavitt O.J. The Mystical Life of Franz Kafka. New York: Oxford University Press, 2012. 212 p.
- Naveh G.S. Biblical Parables and Their Modern Re-creations. Albany: State University of New York Press, 2000. 294 p.
- Nekula M. Franz Kafka and his Prague Contexts. Prague: Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016. 242 p.
- ReuchlinJ. On the Art of the Kabbalah. Lincoln, London: University of Nebraska Press, 1993. 376 p.
- Safran A. The Kabbalah: Law and Mysticism in the Jewish Tradition. New York: Feldheim Publishers, 1975. 339 p.
- SchimanskyJ., Wolfe St.F. Border Aesthetics: Concepts and Intersections. New York-Oxford: Berghahn Books, 2017. 188 p.
- Snoek A. Agamben's Joyful Kafka: Finding Freedom Beyond Subordination. Sydney: Bloomsbury Publishing, 2012. 160 p.
- Suchoff D. Kafka's Jewish Languages: The Hidden Openness of Tradition. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011. 280 p.
- Tubbs R. What is a Number. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 2009. 305 p.
- Weinstein R. Kabbalah and Jewish Modernity. Liverpool: Liverpool University Press, 2016. 214 p.