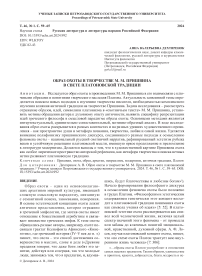Образ охоты в творчестве М. М. Пришвина в свете платоновской традиции
Автор: Дехтяренок А.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 1 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Исследуется образ охоты в произведениях М. М. Пришвина в его взаимосвязи с ключевыми образами и понятиями творческого наследия Платона. Актуальность заявленной темы определяется поиском новых подходов к изучению творчества писателя, необходимостью комплексного изучения влияния античной традиции на творчество Пришвина. Задача исследования - рассмотреть отражение образов, идей, символики платонизма в «охотничьем тексте» М. М. Пришвина, установить мотивы обращения автора к духовному опыту античности, выявить специфику репрезентации идей греческого философа в смысловой парадигме образа охоты. Основными методами являются интертекстуальный, сравнительно-сопоставительный, мотивно-образный анализ. В ходе исследования образ охоты раскрывается в разных контекстах и на разных уровнях художественного проявления - как пространство души и метафора познания, творчества, любви и самой жизни. Уделяется внимание полифонизму пришвинского дискурса, соединившего разные подходы к осмыслению феномена охоты - национальный русский охотничий нарратив, рафинированный эстетизм рубежа веков и устойчивую рецепцию платоновской мысли, имевшую яркое продолжение и преломление в литературе модернизма. Делаются выводы о том, что в художественной картине Пришвина охота как особое лирическое пространство авторской рефлексии, как метафора творчества и поиска вечных истин развивает платоновскую традицию.
Пришвин, охота, образ, архетип, неореализм, модернизм, античная традиция, платон
Короткий адрес: https://sciup.org/147242931
IDR: 147242931 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.992
Текст научной статьи Образ охоты в творчестве М. М. Пришвина в свете платоновской традиции
Образ охоты – один из основополагающих архетипов мировой культуры, имеющий сложную смысловую парадигму, связанную с семантикой поиска, завоевания, покорения. В основе эстетической концепции охоты лежит античное представление, которое отражено в греческой мифологии, где мотив охоты имеет отношение к божественной атрибутике и связывает множество греческих мифов. К теме охоты обращались разные авторы, например, охоте посвящен трактат Ксенофонта Афинского «Кине-гетик», где греческий историк (IV–V век до н. э.) пишет, что охота – это способ достижения совершенства в мыслях, слове и деле («Древние предания говорят, что даже боги любят это занятие, действуя или созерцая, так что молодые люди, занимаясь тем, что я предлагаю, и, вдумав-
шись, будут благочестивы и любезны богам»1). Начало формирования философского дискурса в осмыслении феномена охоты было положено в трудах Платона. «Философским и эстетическим содержанием генетически этот концепт восходит к платоновской традиции понимания охоты как символа учения об идеях» [5: 52]. В платоновской эстетике охота рассматривается как символ всей человеческой жизни, включая целый спектр значений этого феномена – от промысла или забавы до ключевых понятий эмоциональной, нравственной, духовной сферы. А. Ф. Лосев, изучая платоновский концепт охоты, пишет, что «по схеме охоты Платон трактует всю внутреннюю жизнь человека» [7: 306]:
«…образы охоты Платон употребляет в отношении самых высоких предметов. Таким образом, удовольствие и приятное, красота, добродетель, благо, мудрость и ис- тина – все это для Платона является предметом ловли в том же смысле, в каком охотник гоняется за своей добычей» [7: 296].
В русской культуре охотничий топос начиная с XIX века помимо своей значимости отличается многообразием «смысловых парадигм» [9: 29], которые появляются в литературе. О метафоричности понятия охоты пишет А. Ю. Большакова [1], рассматривая этот феномен на материале русской классики. Охотничий текст становится выразителем авторской позиции, философии, душевного состояния. По наблюдению М. М. Одесской, охота была «не только принадлежностью дворянского усадебного быта, но и частью духовной культуры» [11: 240]. Охота как образ жизни отражается в воспоминаниях, записках охотников. Как эстетический концепт она получает осмысление в «большой литературе» (С. Т. Аксаков, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и др.). Сложившееся к концу XIX века представление об охоте отражало состояние русской общественной и художественной мысли и было связано с «глубиной понимания сложности человеческого бытия» [17: 11], «духовным освоением природного пространства» [8: 143], обращением «к первоосновам жизни и деятельности человека» [15: 298].
На протяжении XIX века складывается определенная традиция охотничьего повествования, включающая два основных направления – этнографический очерк и лирический рассказ с охотничьими и пейзажными описаниями. Типология охотничьего нарратива подробно представлена в содержательной статье А. В. Мельниковой [10]. Исследовательница отмечает, что в природоведческом очерке чувство природы становится залогом внутренней гармонии и приводит к сближению и взаимопониманию людей. Родоначальником такого нарратива считается С. Т. Аксаков. Традиция лирико-романтического рассказа представлена И. С. Тургеневым. Здесь охота является не объектом описания, а средством или поводом для осмысления нравственных, эстетических или социальных аспектов человеческой жизни.
***
Пришвин в своем творчестве смог объединить разные традиции охотничьего нарратива. Охота для него была и способом общения с природой, и инструментарием для философствования, представляясь ему «такой же тайной, как вдохновение или творчество» [13: 131]. В книге «За волшебным колобком» (1908) он рассказывает о своем личном восприятии охоты, об истории своего увлечения: «Мне нужно было добывать себе пищу, и я увлекся охотой, как серьезным жизненным делом»2. Забава постепенно переросла в серьезную страсть. Охота для него стала «модусом свободы» [10: 77] и максимального раскрытия личности: «как всякое творчество нуждается в свободе, чувство свободы необходимо и на охоте» (4: 440). Она давала возможность увидеть то, что скрыто за покровом обыденности, проникнуть в таинственный мир природы и понять самого себя как часть этого мира. В одном из своих рассказов Пришвин замечает, что настоящие чудеса «совершаются везде и всюду, и во всякую минуту нашей жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим» (4: 575). В 1920-е годы (очерк «Охота за счастьем», 1926) он связывает охоту с поисками решения вопроса об «отношении сказки и жизни» (4: 241) – так звучит его собственная интерпретация философской проблемы о соотношении идеи и материи. Эти поиски «Невидимого Града» направили его к изучению наук и, собственно, сделали его «вечным искателем».
Пришвин как мыслитель и как художник формировался в эпоху модернизма. Многие современные исследователи указывают на сложность художественного мира писателя, определяя его характер терминами «полифонизм», «универсальность», «диалогичность», обусловленную его бытованием на пересечении культур [2], [3], [4], [12], [14]. Еще в университетский период в Лейпциге Пришвин углубленно изучает европейскую классику, увлекается натурфилософией, проявляет интерес к метафизическому осмыслению мира (По наблюдению Н. Н. Иванова, «пришвинский пантеизм “по-своему”, неопантеизм, состоялся во многом благодаря отклику на пантеизм Гете» [6: 95]). Позже, в Петербурге, он творчески воспринимает эстетические поиски литераторов символистского круга, в частности их тяготение к поэтике и философии мифа. В целом Серебряный век с его рафинированным эстетизмом оказал серьезное влияние на художественную философию Пришвина. На это обращает внимание Е. Фролова, подчеркивая, что творчество писателя охватывает весь художественный опыт «исторических и культурных событий ХХ века» [16: 6].
В пришвинском дискурсе находят своеобразное выражение многие лейтмотивные образы светского богословия, во многом определившие специфику его поэтики. Одним из духовных ориентиров является метафизика Вл. Соловьева, в преломлении которой концепция платонизма с ее идеей двоемирия становится основным художественным принципом писателя. С первых произведений Пришвин формирует понятие невидимой завесы материального мира и воспроизводит платоновскую диалектику идеи и материи. Так, в рассказе «Крутоярский зверь» (1911) средоточием материального, низового аспекта становится город Безверск. Само название города совмещает в себе идею средоточия стихийного, эмпирического пространства («без веры») и образ зверя («бе зверь»), который, по легендам, скрывался на дне озера Крутояра. Олицетворением этой стихии является хозяин старой помещичьей усадьбы, Павлик Верхне-Бродский, единственной страстью, смыслом жизни которого является охота. Если для других охота – это поиск добычи, страсть к преследованию, занятие, равняющее «и барина, и мужика, и лесного бродягу» (4: 74), то для Павлика – нечто большее, это доказательство совершенства мира, того, что «все в мире так верно и хорошо устроено» (4: 78). Ключом к совершенству для него является самая безупречная охотничья собака, о которой он мечтает. В рассказе находит отражение платоновский миф о пещере, изложенный в диалоге «Государство». Образ пещеры – это метафора неподлинного мира, который представляет собой лишь тень идеального («…это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее: область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца»3). Некоторые детали рассказа Пришвина указывают на непосредственную связь с этим мифом. Аллюзивным является описание усадьбы Павлика – окруженный лесами старый господский дом, с диким запущенным садом: «…никто за ним не смотрит, все само живет и множится» (4: 71). Пещера – символ темницы, в которой пребывает душа человека, погруженная в чувственный мир («Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет»4). В рассказе ее художественной реинтерпретацией является старый шкаф, который служит герою одновременно и постелью, и потайным местом, где он прячется от кредиторов.
С появлением идеальной охотничьей собаки мир Павлика преображается. Все становится серебряным – растения, животные, «луг у реки был весь – как медовая сота» (4: 81). Кличка породистой гончей – Леди – является смысловым ключом к пониманию этого образа в свете куртуазной традиции поклонения абсолютной красоте и истине, воплощенной в женствен- ном начале. Она пробуждает в нем воспоминание о благородном рыцарстве, становится для него Дульсинеей, которую он готов «полюбить на веки вечные, и знать, и говорить всем, что уже лучше нет на свете Леди Крутоярской» (4: 79). В пришвинском нарративе сополагаются комический и возвышенный планы, где первый не отменяет второго (см. отсыл к образу ДонКихота). Для Павлика Леди является воплощением совершенства, идеалом всего существующего в мире. Так, по Платону, душа, созерцающая вечные идеи, переходит «от полного невежества к светлой жизни, она ослеплена ярким сиянием: такое ее состояние и такую жизнь можно счесть блаженством»5. Образ Леди подчеркивается световой символикой: огненно-рыжая масть собаки, окружающие ее блестящие капли в саду: «Ветви неодетого сада, как жемчугом, были унизаны теплыми каплями» (4: 79). Свет окружает ее, и преображается вся природа («…трава, листья сверкали; все, что касалось их, становилось серебряным» (4: 80)). Герой счастлив, ему кажется, что он, наконец, нашел ключ от всех тайн мироздания, который позволит ему узнать, почему «все в мире так верно и хорошо устроено» (4: 78), даст смысловое наполнение его жизни. Однако выйти из платоновской пещеры Павлик не может: в Безверске Леди исчезает, а тщетные поиски собаки ни к чему не приводят. Отчаявшемуся Павлику снится сон, в котором путь к Леди преграждает стеклянная дверь – «ширма»6, отделяющая материальный мир от мира идей.
Платоническая идея души, познаваемой через любовь, является одним из главных оснований русского модернизма. Эта идея у Пришвина представлена в преломлении софиологических переживаний рубежа веков. Так, образ Леди является репрезентацией «лучезарной подруги» Вл. Соловьева с присущей ей дуалистической семантикой. В финале рассказа Леди появляется как падшая душа (тварная София) в окружении диких зверей, из леса доносится вой и рычание, а в запахе цветущего сада чудится «что-то темное и страшное» (4: 91). Обращение к платоническому мифу позволяет писателю осмыслить феномен противоречивой целостности человека. В свете этой проблемы образ-концепт охоты в рассказе выступает как символ познания мира и самого себя.
В рассказе «Птичье кладбище» (1911) недостижимым идеалом, «Градом Невидимым» является гусиный остров – место, о котором мечтают любители охоты («Каждому хочется гуся убить, и нельзя вперед загадать, чье будет сча- стье» (3: 106)). Однако и здесь власть материального мира непреодолима, а обретение целостности и гармонии невозможно («Нашему брату <…> одним глазком на землю, другим на небо надо смотреть» (3: 105)). Охотник проплывает мимо острова, слышит шум золотой стаи, но не может увидеть ее: «Сколько звезд было на небе! Но Принц ничего не слышал, а только видел перед собой темную полоску» (3: 108).
«Охота – это нравственный путь человека» (3: 571), – пишет Пришвин в статье 1948 года, которая считается своеобразным завещанием охотника. В ней писатель наиболее полно раскрывает свое понимание этого образа-символа, подчеркивая свою близость тургеневской традиции возвышенного лиризма тончайших переживаний: «все мы немного поэты в душе, особенно охотники» (3: 567). Однако пришвинское отождествление охоты с духовным поиском в гораздо большей степени связано с устойчивой платоновской традицией, оказавшей огромное влияние на русскую философскую мысль Серебряного века. Охота мыслится Пришвиным как метод постижения вечной идеи красоты. Именно духовная настойчивость охотника позволяет увидеть сокровенный смысл бытия: «Довольно бывает какого-то листика капусты, чтобы повязка спала с глаз» (3: 568). Изучая эстетику Платона, А. Ф. Лосев отмечает, что Прекрасное в его построениях – это вечная идея, «рассыпанная по бесчисленному количеству вещей» [6: 309], поэтому «нужно выслеживать отсветы вечной красоты во всех этих предметах, <…> нужно ловить ее, схватывать ее и уже потом любоваться ею» [6: 310]. Платоновский мотив прозрения получает развитие в пейзажных картинах охотничьих рассказов Пришвина, где описания природы обретают мифологический контекст. Открытие мира сопровождается солнечной символикой («От солнечного луча все становится волшебным» (3: 570); «от первого луча <…> все вокруг обретает смысл» (5: 374)). В платоновском диалоге «Федон» ситуация прозрения описывается как преодоление человеком своей телесной природы: «…он узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную Землю»7. Для Пришвина, как и для Платона, все мироздание тождественно пространству человеческой души, и поэтому его «охотничья философия» обусловлена стремлением разомкнуть границы своего телесного «я» - платоновской пещеры, когда чувства, эмоции затуманивают, мешают видеть целостный мир, видеть лица. Именно этот контекст подразумевается в словах писателя о том, что охота для него «больше жизни» (5: 386) – это «видение души человека в образах природы» (5: 388). Прозрение сопровождается неутомимым желанием поведать об этом людям («Лучи разбегаются по лесу, в котором все оживает, становится красочным и звучным, обращаясь в слова человеческие» (5: 374)). Так охота становится началом творчества.
Охота как ключ к жизнетворчеству помогает писателю представить диалектику идеи и материи, которая в эстетике Платона раскрывается с помощью охотничьей терминологии. По наблюдению Лосева, в эстетике Платона «чувственность охотится за идеями, чтобы быть чем-то определенным, а идея охотится за чувственностью, чтобы реально осуществиться» [6: 298]. Так, например, метафорой добывания знаний в диалоге «Теэтет» становится ловля голубей, а в «Федоне» в терминах охоты речь идет о поисках истины, где философ – это «ловец бытия», а его мысль уподобляется добыче («тропа приводит нас к мысли»8). У Пришвина мотив поиска мысли также раскрывается в охотничьем контексте в книге «Глаза земли» (1957), где писатель в поисках образа уподобляется гончей собаке: «Это славная смерть на гону. Только лучше конечно, чтобы успеть зайца поймать» (5: 319). Лесная прогулка становится метафорой творческого процесса:
«Я видел, как определялись капли росы на траве, и вслед за этим той же силой внутренней ритмики улетевшая в небеса мысль стала искать на земле определения и воплощения» (5: 324).
В «Журавлиной родине» (1929) первообразом мира становится Клавдофора – реликтовое подводное растение, существовавшее в озере еще с ледниковой эпохи. В истолковании Пришвина Клавдофора – это зримый «миф самих вещей» (4: 346), тайна всеобщей жизни, которая сближает охотничий восторг и счастье творчества. Платонический дискурс угадывается в аллюзивной отсылке к мотиву анамнесиса: миф о «творческой вечности под водой» (4: 410) пробуждает воспоминания о том, «что все это было в себе» (4: 372), мысли о «предустановленной гармонии» (4: 469) и «утраченном родстве» (4: 351). Клав-дофора отождествляется и с концепцией эроса. Это и женский первообраз, символ лучезарной невесты, Дульсинеи, Прекрасной дамы, Богини-Матери («Как солнце, она сама по себе мне представлялась безумно сверкающим кругом» (4: 412); «все мое путешествие за клавдофорой представилось, как донкихотское» (4: 388)). Подобно двуединой Афродите Клавдофора в сознании автора разделилась на «поэтическую и действительную» (4: 418). Эта платоническая дихотомия и попытки ее преодоления составляют основополагающий мотив творчества Пришвина.
Символическим двойником Клавдофоры в повести «Жень-шень» (1932) является «самое красивое животное в мире, олень-цветок Хуа-лу» (3: 290). «Солнечная» образность повести тождественна платоновской интерпретации Прекрасного, пронизанного «светом и любовью» [6: 309]. Вся кипучая жизнь маньчжурской долины – цветы, пчелы, бабочки – рассказывают «историю встречи солнечного луча с землею» (3: 226). И только человек, по мысли Пришвина, может рассказывать о солнце, «лишь окидывая родственным вниманием все разнообразные освещенные им предметы» (3: 227). Кульминацией повести становится встреча охотника с Хуа-лу. Находясь внутри шатра, созданного корнями деревьев, он замечает ее по движущимся солнечным лучам. Образ Хуа-лу – это и идеализированное женское начало, и сама любовь, которую Пришвин рисует при помощи терминов охоты («я дрожал мелкой дрожью, удерживаясь от искушения схватить ее за копытца <…> и как бы в награду за это олень-цветок превратился в царевну…» (3: 232). Глаза Хуа-лу, похожие на цветок, напоминают охотнику о любви, которую он когда-то упустил («Я был уверен тогда, что, схвати я свою невесту, как оленя,– и все: и вопрос о корне жизни решен» (3: 240)). Платоническая дихотомия духа и материи преломляется в повести в виде внутренней борьбы героя- повествователя между тем самым «охотником» и «поэтом», желанием обладать и более высоким стремлением созерцания прекрасного: «Так я боролся с собой и не дышал» (3: 233). С образом-концептом охоты связан мотив поиска счастья, которое в творчестве Пришвина предстает и как глубоко личная, и как бытийная категория.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обращаясь к культурному наследию и не раз находясь в центре философских дискуссий своих современников, Михаил Пришвин сумел найти свой метод, транслирующий в художественном слове «жизненный мир» в его эстетическом дискурсе. Мифопоэтическое осмысление окружающего мира и своей жизни, философия всеединства и «всечеловека» («я мог бы весь земной шар нарисовать, как лицо» (4: 412)) закономерно приводит писателя к традиционным античным образам и мотивам, укорененным в европейской культурной традиции. Общая картина мира в произведениях Пришвина строится по античному принципу калокагатии («Все истинно новое свидетельствует о красоте и добре» (5: 374)). Образ охоты как один из архетипов мировой культуры в творчестве Пришвина становится «авторской метафорой» поиска вечных истин и особым лирическим пространством авторской рефлексии. Вместе с этим образ имеет сложную смысловую парадигму, включающую в себя русскую традицию охотничьего текста в контаминации с соловьевской проекцией платонизма.
Список литературы Образ охоты в творчестве М. М. Пришвина в свете платоновской традиции
- Большакова А. Ю. Философско-эстетическая «охота» в мире русского слова (Пушкин, Тургенев, Л. Толстой, Аксаков) // Литературная учеба. 2001. № 3. С. 170-195.
- Борисова Н. В. Мифопоэтика всеединства в философской прозе М. Пришвина: Учеб.- метод. пособие. Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. 227 с.
- Варламов А. Н. Пришвин, или Гений жизни. Биографическое повествование // Октябрь. 2002. № 1. С. 130-184.
- Дворцова Н. П. Экстерриториальный писатель (о литературной репутации Михаила Пришвина) // Вопросы литературы. 2004. № 1. С. 49-69.
- Жилякова Э. М., Хохлова Н. А. Концепт охоты в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2013. № (23). С. 52-62.
- Иванов Н. Н. М. Пришвин - читатель И. В. Гете // Михаил Пришвин и XXI век: Материалы Всерос. науч. конф. Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2013. С. 93-97.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики: В 8 т. М.: ООО Издательство «АСТ», 2000. Т. 3. 624 с.
- Ляпина А. В. Традиции И. С. Тургенева в специализированной прессе о природе и охоте конца XIX века (на материале журналов «Природа и охота» и «Русский охотник») // Ученые записки Орловского государственного университета. 2019. № 3 (84). С. 140-145.
- Мальцева Т. В. «Охотничий текст» русской литературы // Art Logos. 2020. № 3 (12). C. 27-41 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lengu.ru/mag/art-logos/archive/38/406 (дата обращения 01.11.2023).
- Мельникова А. В. Охотничьи нарративы в русской литературе второй половины XIX - первой трети XX века // Диалоги классиков - диалоги с классикой: Сб. науч. ст. Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2014. С. 61-81.
- Одесская М. М. Ружье и лира (Охотничий рассказ в русской литературе XIX века) // Вопросы литературы. 1998. № 3. С. 239-252.
- Подоксенов А. М. Михаил Пришвин: философско-мировоззренческие контексты творчества // Журнальный клуб Интелрос «Credo new». 2013. № 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.intelros. ru/readroom/credo_new/k4-2013/21496-mihail-prishvin-filosofsko-mirovozzrencheskie-konteksty-tvorchestva. html (дата обращения 01.11.2023).
- Рудашевская Т. М. М. М. Пришвин и русская классика: Фацелия. Осударева дорога. СПб., 2005. 260 с.
- Туранина Н. А. Метафорическое моделирование мира как конструкт реальности в художественном дискурсе // Наука. Искусство. Культура. Вып. 2 (6). 2015. С. 252-256.
- Федорова Е. А. Своеобразие национального характера в охотничьих рассказах Е. Н. Опочинина // Проблемы исторической поэтики. 2016. № 14. С. 297-310.
- Фролова Е. В. Проблема двойственности творчества М. М. Пришвина // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7, № 3А. С. 142-149.
- Хохлова Н. А. Об особенностях концепта охоты в рассказах А. П. Чехова первой половины 1880 х гг. // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 400. С. 11-19.