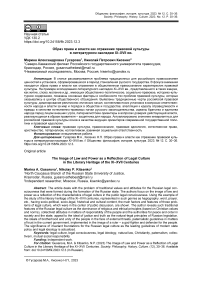Образ права и власти как отражение правовой культуры в литературном наследии XI-XVII вв
Автор: Гусарова М.А., Кисенко Н.П.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема традиционных для российского правосознания ценностей и установок, сформировавшихся в период становления русского государства. В фокусе внимания находится образ права и власти как отражение в общественном правосознании характеристик правовой культуры. На примере исследования литературного наследия XI-XVII вв., представленного в таких жанрах, как житие, слово, моление и др., имеющих общественно-политическое, социально-правовое, историко-культурное содержание, показаны основные факторы и особенности тех проблем правовой культуры, которые оказывались в центре общественного обсуждения. Выявлены традиционные черты российской правовой культуры: доминирование религиозно-этических начал, коллективистских установок в вопросах ответственности народа и власти за мир и порядок в обществе и государстве, апелляция к идеалу справедливости и правды в качестве естественно-правовых начал русского законодательства, идеалы братства и единства народа перед лицом внешних угроз, патерналистские ориентиры в вопросах доверия действующей власти, реализующиеся в образе правителя - защитника для народа. Актуализировано значение инвариантных для российской правовой культуры основ в качестве ведущих ориентиров современной государственной политики и правовой идеологии.
Правовая культура, правосознание, правовая идеология, естественное право, христианство, патернализм, коллективизм, взаимная социальная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/149144317
IDR: 149144317 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.3
Текст научной статьи Образ права и власти как отражение правовой культуры в литературном наследии XI-XVII вв
В современных условиях перед российским государством стоит ряд актуальных задач, связанных с возрождением традиционных основ культуры, повышением уровня правопорядка и соответствующей культуры граждан, совершенствованием правовой системы в целом. Особое значение приобретает исследование тех духовных факторов и аксиологических оснований, которые являются опорными при решении названных задач. Таким образом, ревизия идей, запечатленных в отечественном культурном наследии прошлого, сегодня способна пролить свет на многие современные проблемы и задачи.
Особый интерес в российской правовой реальности представляет период XI–XVII вв., когда формировались идеологические основания российской государственности, складывались специфические особенности российского правосознания и правовой культуры. В литературном наследии этого периода, изобилующего произведениями разнообразных жанров, среди которых можно встретить житие, слово, моление и др., отразились не только исторические события, но и так называемое «живое право»1, характеризующее основные черты российской правовой культуры. Основываясь на распространенной в современной научной литературе точки зрения о том, что правовая культура выступает частью культуры того или иного народа, конкретно-исторического общества (Автономов, 2016; Гусарова, 2017 а, б; Толпыкин, 2011), можно постулировать, что в качестве части культуры вообще правовая ее составляющая не только принимает коренные свойства основной, но и оказывает влияние на ее развитие.
Как представляется, образ права и власти выступает неотъемлемой частью правовой культуры и отражает ее элементы: иррациональные – символы, мифы, образы, мифологемы; рациональные – например, идеологические. При этом под образом права и власти следует понимать совокупное представление о носителях власти и их высшем призвании, а также о сущности закона и его предназначении, соотношении с другими регуляторами поведения, которое формируется в общественном правосознании из различных оценок, символов и характеристик под влиянием общественно-политических, исторических, социокультурных факторов в течение достаточно длительного промежутка времени.
Следует отметить, что наиболее значительным событием, повлиявшим на формирование русской правовой культуры, является принятие христианства в 988 г., которое со своей монотеистической государственно-правовой идеологией не только помогло интегрироваться Руси в сообщество христианских европейских государств, но и обеспечило мощный социокультурный импульс и новый вектор для развития.
Понятие власти, используемое в произведениях российской словесности названного периода, репрезентировано как собирательный образ, вмещающий первых лиц российского государства, служащих разных уровней и объема полномочий, представителей судейской профессии. При этом сам характер коммуникации между властью и обществом носит сугубо нисходящее направление, олицетворяющее евангельскую властную иерархию. В.Н. Суздальцева справедливо подметила, что в произведениях русской словесности, начиная с периода принятия христианства на Руси, отражается тот общественный и государственный порядок, который транслировался от власти народу (Суздальцева, 2017: 6–7). Неслучайно авторами первых литературных произведений выступают представители светской и религиозной власти, а также наиболее авторитетные общественные деятели.
Начиная с периода Киевской Руси в фокусе внимания творцов интеллектуальной культуры оказываются значимые для государства и общества вопросы – понимание новой веры, принятие ее идеологии и оценка значимости в общественном правосознании. Следует также отметить, что в данный период в результате первой государственной кодификации права появляется свод законов «Русская Правда», вобравший в себя правовые обычаи, судебную практику и традиционно русские идеалы правосудия, что свидетельствует о довольно высоком уровне отечественной правовой культуры в то время. Так, Лука Жидята, новгородский епископ первой половины XI в. и первый назначенный на Руси в обход византийских правил о рукоположении священник, обращается к широким слоям населения с объяснением, в чем суть христианской веры, новой для русского народа2. Лука раскрывает ее особенности в том числе посредством вопросов, касающихся христианского взгляда на право и власть, и пишет: «Судите по правде, мзды не берите, в рост не давайте. Бога бойтесь, князя чтите, ведь рабы мы, во-первых, Бога, а потом господина»3.
Митрополит Киевский Иларион, который также был назначен князем Ярославом Мудрым вопреки правилам Константинополя, в «Слове о законе и благодати» (написанном между 1037– 1050 гг.)1, используя антитезу закона Моисея и новозаветной благодати, представляет концепцию независимого от Византии государства – Киевской Руси, его равнозначного политического и духовно-идеологического статуса среди христианских государств. Иларион сравнивает закон Моисея и новозаветную благодать не просто в качестве разных систем социального поведения, но как разные этапы в жизни человечества, апеллирующие в первом случае к внешним формам поведения, а во втором – к напряжению всех духовных сил человека, его внутренних нравственных ресурсов. Митрополит пишет: «Прежде был дан закон, потом благодать, прежде тень – потом и истина… евангельский источник наводнился и всю землю покрыл и на нас пролился»2. Он подчеркивает, что внешний закон, ограничивающий поведение, не меняет личности, но сохраняет человека от смерти физической и от чрезмерного зла. Однако благодать как внутренний закон «доводит до совершенства» и отдельную личность, и общество в целом, формируя правильные ценностные ориентации. Эта антитеза у Илариона представлена на примере библейских образов рабыни Агари и законной жены Авраама – Сарры, которые символизируют две эпохи – закона и благодати. Нельзя не заметить, что данную антитезу можно рассматривать в аспекте ключевой проблемы правопонимания – противостояния позитивного и естественного права, формы и содержания его как искомого единства. Кроме того, в «Слове о законе и благодати» впервые в отечественной литературе затронута проблема правосознания, правовой культуры, правового поведения в контексте глобального процесса генезиса правовой реальности, его антропологического, аксиологического и праксиологического измерения.
Иларион особо выделяет фигуру князя Владимира Святославовича и пишет о его происхождении – «славный от славных», «благородный от благородных», оценивая его государственную политику как справедливую, поскольку князь «землею управлял правдою, мужеством и разумом».
Среди произведений, в которых также раскрывается светлый образ русского князя, следует назвать «Слово о погибели Русской земли» (время написания – 1238–1246 гг.)3. Неизвестный автор данного труда характеризует Владимира Мономаха как пример Божьего воина – завоевателя, которого русских народ почитал, а язычники страшились. Нельзя не заметить, что образы князей в произведениях русской словесности всегда светлые. И.А. Исаев указывает на то, что в разные периоды «властителям и суверенам были близки следующие образы: солнце, лев, золото. Справедливость всегда предпочитала свет» (Исаев, 2024: 20). Как мы видим, и в русской литературе присутствуют эти универсальные образы.
Одной из проблем, актуализованной в литературных произведениях названного периода, является проблема страданий и бед русского народа, причиненных захватническим, разорительным нашествием татаро-монголов. Так, в «Словах и поучениях» Серапиона Владимирского, написанных в конце 30-х гг. XIII в.4 как ответ на исторический вызов, автор объясняет его наказанием Божьим за множественные грехи народа и обращается к читателям со следующими словами: «Если откажемся от скверных и немилостивых законов, если отстранимся от кровожадного лихоимства и всякого грабежа, воровства, разбоя, грязного прелюбодейства, отлучающих нас от Бога, если отстанем от сквернословия, лжи, клеветы, проклятий, доносов и других сатанинских деяний, если в этом переменимся, – то верно знаю, что сподобимся благ не только в этой жизни, но и в будущей…»5. Нельзя не заметить, что в словах летописца речь идет о призыве к формированию правосознания, которое должно быть основано на христианских ценностях, реализованных в поведении, образе жизни; о необходимости торжества естественного закона. Важно также обратить внимание на тот факт, что Серапион Владимирский обращается прежде всего к народу, а не к духовенству или князьям, поскольку именно он, по мнению летописца, ответственен за судьбу своей Родины. И здесь нельзя не заметить активную позицию автора в вопросе поддержания идеи коллективной ответственности за ситуацию в государстве.
Среди произведений, актуализирующих образ сильного князя – защитника русской земли, можно выделить «Слово о житии Дмитрия Ивановича Донского»6, автор которого в духе русской литературной традиции прославляет Великого князя Московского Дмитрия Донского. В данном литературном памятнике летописец называет князя «собирателем Русской земли», поборником христианских ценностей, которого страшились все враги, и подмечает, что в годы правления Дмитрия Донского «была тишина в Русской земле! Так враги его посрамлены были. Другие же страны, услышав о победах над врагами, дарованных ему Богом, все перед силой его преклонилися, а раскольники и мятежники царства его все погибли»1. Дмитрий Иванович описан не только как защитник русской земли и мудрый политик, но и как милостивый князь с доброй душой, который своим примером продемонстрировал христианский образ жизни: «безвинных любил, а виновных прощал»2 и, таким образом, выступал примером для своих подданных и народа. Автор «Слова» пишет, что князь перед смертью дал наказ своим детям бояться Бога и помнить сказанные в Писании слова о важности сохранения отеческой традиции и мира в государстве: «Чтите родителей своих, да благо тогда будет. Мир и любовь храните меж собой»3. Кроме того, он повелел своим детям любить своих бояр, воздавать им достойную честь по их службе, и не делать ничего без их совета.
Период становления Московского государства XV–XVI вв. был связан с возрастанием роли права в жизни государства. В 1497 г. появляется первый великокняжеский Судебник, в котором, в отличие от «Русской Правды», уделялось больше внимания не только сословным вопросам, но и регламентации судебного разбирательства, установлению четкой позиции князя и государства в качестве источника права и правосудия. Нельзя не отметить и закрепляющуюся тенденцию усиления нормативистских и этатистских установок, что потребовало формирования государственно-правовой идеологии и ее обоснования в общественном правосознании.
В литературных произведениях периода становления Московского государства еще можно заметить сохранение тематики возвеличивания образа князя-христианина. Например, в «Похвальном слове инока Фомы»4, адресованном Борису Александровичу Тверскому, правившему в период 1426–1461 гг., князь называется «государем, пастырем и истинным христолюбцем, утвержденным Богом на отеческом престоле»5. Инок Фома писал также о мудром правлении Бориса Александровича, который поддерживал христианскую церковь на Руси и тем самым способствовал духовному развитию своего народа.
Вместе с тем нельзя не заметить тенденцию дивергенции правовой психологии народа от государственно-правовой идеологии, транслировавшейся посредством формальных источников позитивного права данного периода. Среди проблем, рассматриваемых в произведениях XV– XVII вв., особое место занимает соотношение норм божественного и позитивного права, обращения к царю как справедливому заступнику слабых и обиженных. Например, в «Слове об осуждении еретиков»6 Иосиф Волоцкий пишет, что гражданские законы содержат в себе божественные истины, данные свыше на вселенских и поместных соборах, поэтому они имеют непререкаемый авторитет: «В древности божественные правила перемешались с гражданскими законами и по-ложениями»7. В «Послании» царю Ивану Васильевичу старец Филофей, автор концепции «Москва – третий Рим», призывает самодержца «Богом избранным» для того, чтобы самостоятельно стать во главе православной церкви Руси и защитить свой народ от бед.
В контексте сказанного выше особый интерес вызывает «Слово печальное»8 инока Максима Грека, которое было написано, когда он находился в Иосифо-Волоколамском монастыре, и обращено к современным ему властителям в аллегорической форме. Максим Грек представлял власть в образе дочери славного Царя Небесного, которая оказалась в поругании и непочтении как у простых людей, так и у власть имущих. Находящиеся у власти люди, по мнению Максима Грека, «должны способствовать укреплению подвластных им людей, а не пагубе и беспрестанному смятению»9. От лица власти как дочери Бога он обращается к современникам: «Многие не понимают этого и управляют делами недостойно… являются мучителями, а не царями, и тем самым и меня опозорили и себя крайним бедствиям и болезням подвергли, получив от Вышнего возмездие за свое безумие и леность»10.
Главная героиня данного произведения – Дочь Вышнего (власть) – сетует на то, что многих владеющих ею «одолели сребролюбие и лихоимство» и они изнуряют подвластных, что не способствует укреплению государства. Неслучайно Максим Грек сравнивает современность с пустыней, тем самым создавая аллегорию той государственно-политической ситуации отсутствия благоразумных царей – ревнителей христианской веры, в которой осталась Русь.
В другом своем произведении – «Послании царю Ивану IV»1 – Максим Грек обращается из Тверского Отроча монастыря и пишет о законности, а, следовательно, святости власти, которую царь получил «по отеческому жребию многолетнему», «от высшего богоначалия», поэтому в его царствовании должны быть реализованы божественные повеления «управлять правдою и правосудием… защищать отечество от несправедливости и губительства… от слуг антихриста»2. Апеллируя к разуму, мудрости и доброте царя, Максим Грек просит и о милости к нему.
Достаточно оппозиционными по отношению к действующей власти и ее политике являются идеи Федора Карпова – общественного и политического деятеля при Иване III и в период регентства Елены Глинской (матери Ивана IV). В «Послании к митрополиту Даниилу»3 Федор Карпов противостоит распространенной в то время позиции государства и церкви о тотальном и безусловном терпении. Размышляя о нем как о христианской добродетели, которая легла в основу русской души, Федор Карпов замечает, что терпение понимают неправильно, трактуя его как полное принятие несправедливости и невозможность дать ей отпор. Федор Карпов не отрицает значимости правды и правопорядка в обществе и пишет, что они необходимы «во всяком государственном деле и царстве для укрепления могущества его»4, призывая соотечественников к активной гражданской позиции. Он пишет: «Дело народное в городах и царствах погибнет из-за долгого и излишнего терпения, долготерпение без правды и закона общественного в людях доброе разрушает и дело народное в ничто обращает, дурные нравы в царствах сеет, из-за нищеты делает людей непослушными государям. Поэтому всякий город и всякое царство… управляться должны начальниками, стремящимися к правде и следующими известным законам праведным, а не терпению… Злые же нравы надо стремиться наказаниями исправлять и угрозами от порока отвращать…»5. Федор Карпов призывает митрополита молиться о царе, чтобы он был мудр в принятии решений и соблюдал равновесие в двух крайностях – милости и правде, поскольку «милость без правды есть малодушие, а правда без милости – мучительство, и оба в отдельности разрушают царство и всякое городское общежитие»6.
В произведении «Валаамская беседа»7, автор которой неизвестен, явно прослеживаются две значимых для рассматриваемого периода темы – социальной иерархии как отражении небесной и проблема личной ответственности правителя за свои действия. Автор «Валаамской беседы» призывает братьев «покоряться благоверным царям и великим князьям русским, заботиться о них и во всем им навстречу идти… Бога за них молить»8, а также настаивает на том, что «благоверным князьям русским и царю больше всех дана власть надо всеми; за всю державу царства с них в другой жизни взыщет праведный и страшный царь небесный Христос, Бог наш, о них все разузнает и к ответу за всех призовет, по их делам будет судить весь мир, каждому воздаст по делам его»9. Дабы приобрести мудрость, автор «Беседы» советует царю не быть простодушным и в государственных делах не на советы его окружения опираться, но на мудрость «святых Божественных книг» и черпать в них истины и идеи.
Проблема социальной и божественной ответственности царя за справедливое правление звучит также и труде «Правительница и землемерие»10, написанном в XVI в. Ермолаем-Еразмом, демократически настроенным священником, служившим в Пскове и Москве. В этом духовном и политико-правовом произведении он выступал против боярского превосходства в обществе и государстве. Обращаясь к царю, священник пишет, что «среди всех царей, во всех народах, кроме русского, не найти истинно правоверного царя»1. Призывая правителя к социальной справедливости, Ермолай пишет: «Если в правде крепок царь, то следует ему, не ленясь, стремиться к тому, что способствует благополучию все подданных его, должен он заботиться не об одних вельможах, но и о простых людях»2.
Неизвестный автор произведения «Наставление князьям»3 (XVI в.) также напоминает об ответственности царя назначать на государственные должности людей достойных и праведных. Он акцентирует внимание на том, что все князья и судьи есть слуги Божьи, поэтому назначенные судьи не должны быть иноверцами, несправедливыми людьми и пьяницами, и подчеркивает, что «у царя неправедного и слуги закону не следуют»4.
Для XVII в., названного «бунташным» по причине множественных общественных волнений, были характерны и уже ставшие традиционными темы необходимости покаяния русского народа перед Богом, и новые для общественного сознания сюжеты, касающиеся возможности переустройства российского общества путем его просвещения. Так, неизвестный автор «Плача о пленении и о полном разорении Московского государства врагами» видит причины упадка «превы-сокой России» в том, что цари стали «волховствовать и чародействовать», в результате чего враги православной веры – поляки – ополчились на Русь. Автор «Плача» призывает весь христианский народ молиться Богу о прощении грехов5.
Симеон Полоцкий – автор «Слова о взыскании премудрости»6, обращаясь к князю Алексею Михайловичу как мудрому и рачительному самодержцу, просит создать в России училища, привлекать ученых, учителей поощрять, чтобы получить «богоданный плод просвещения»7. Путь просвещения, по мнению древнерусского автора, является наиболее правильным для развития государства и общества в сложившихся условиях.
Проанализировав известные произведения русской словесности XI–XVII вв., можно сделать несколько актуальных для современного периода развития российского общества и государства выводов, а также указать направления для дальнейших научных исследований.
Формирование особенностей российской правовой культуры непосредственно связано с действием в отечественном социокультурном пространстве религиозных, политических, экономических и иных факторов, под влиянием которых происходит становление правовых феноменов и правового сознания граждан периода Древней Руси.
Основы российской правовой культуры были заложены в период с XI–XVII вв. Образ права и власти в общественном правосознании как один из аспектов правовой культуры, раскрытый в литературных произведениях социально-философской, социально-политической, духовно-культурной направленности, указывает на формирование параллельно с российской государственной идеологией ее инвариантных черт. К таковым следует отнести, прежде всего, доминирование религиозно-этических начал, связанных с влиянием на пространство российской правовой культуры византийских властных и правовых институтов, норм права и христианских идеалов, установок на приоритет коллективистских ценностей в вопросах государственного устройства и внешних вызовов, воплотившихся в консолидации и сплоченности народа и власти, доминирование естественноправовых ценностей справедливости и правды как центробежных ориентиров русского права, распространение идеалов народного единства и коллективной ответственности за судьбу Родины, утверждение патерналистских установок в вопросах власти – подчинения и общественного ожидания, опознающихся в образе правителя как защитника веры и заступника народа.
Названные выше инвариантные черты российской правовой культуры, будучи интегрированными в отечественное правовое сознание в ходе истории, должны сегодня стать базовыми принципами государственной политики в области развития правовой культуры, а также занять достойное место в российской правовой идеологии.
Список литературы Образ права и власти как отражение правовой культуры в литературном наследии XI-XVII вв
- Автономов А.С. Структурный анализ правовой культуры // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 2 (57). С. 5-9. DOI: 10.12737/19194 EDN: VUTQJT
- Гусарова М.А. Правосознание как социокультурный феномен. Майкоп, 2017 а. 196 с. EDN: ZVUGBV
- Гусарова М.А. Соотношение правосознания, правовой ментальности, правового менталитета и правовой культуры // Alma Mater (Вестник высшей школы). 2017 б. № 6. С. 30-34. EDN: YTMXHJ
- Исаев И.А. Историческая метафизика власти и закона: обращение к истокам. М., 2024. 272 с.
- Суздальцева В.Н. Образ власти в современных российских СМИ: вербальный аспект. М., 2017. 252 с. EDN: LBTHDN
- Толпыкин В.Е. Правосознание как социокультурный феномен // Общество: политика, экономика, право. 2011. № 3. С. 127-132. EDN: OGHLBZ
- Эрлих О. Основоположение социологии права. СПб., 2011. 703 с. EDN: VWNEOF